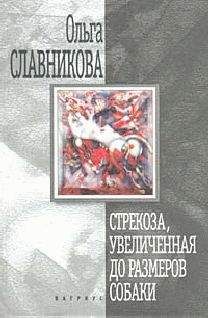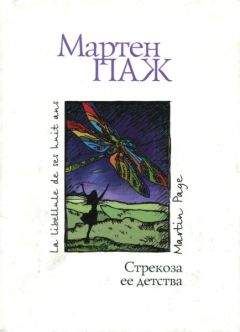Все-таки надо было идти назад. Но теперь – словно Софья Андреевна, как молила в беспамятном кружении бегства, очутилась за тридевять земель,– теперь она никак не могла выбрести хоть на какую-нибудь улицу. Кругом были только пустые огороды, черные баньки на голом месте, тусклые теплички, с полым треском раздувавшие от ветра впалые бока,– второй, уменьшенный Ижевск, где, не умирая, а просто исчезая в расширявшемся для них пространстве, могли бы жить растущие под землю старики. Софья Андреевна все брела и брела и видела сквозь заборы только заборы,– они волочились туда и сюда, соскакивали зубьями с рабочей полосы, будто без конца перетирали что-то. Один раз, с пригорка, в неожиданной стороне, она увидала давешний прудок: он все еще был светлее своих берегов и казался железкой в угле, остро заточенной с ровного краю. Большие, настоящие дома с людьми стояли вдалеке, за теменью обширных гряд, и орали музыкой, будто радиоприемники, уже не выделяя натуральных живых голосов, зато раскатывая их на все притихшие окрестности. Распознать дома с огородных задов было невозможно: те приметы, что запомнила Софья Андреевна, остались с другой стороны, и к тому же то были дневные, частные признаки, не имевшие отношения к общему очерку изб, еще и искаженному с задворок ломаной чернотой сараев, просевших навесов на тонких столбах. В этот сумеречный час исчезающих расстояний, переливаний из пустоты в пустоту любая вещь могла, всего лишь обрисовавшись на фоне неба, сделаться главной чертой потемневшей местности. Несколько раз Софье Андреевне чудилось, будто она уловила что-то знакомое в сочетании ската крыши и провисших над ней проводов. Тогда она тихонько открывала заднюю калитку и, пройдя десяток шагов по едва различимой, внезапно уводившей в сторону меже, замирала в нерешительности, прислушиваясь к невнятному людскому гаму с отрешенным чувством, будто глядит с того света на этот, странно скудный посреди пустой, догола, до вывернутых комьев ободранной земли. Над головою у Софьи Андреевны тоже не было утешения: закат растаял вместе со своей атмосферной основой, и металлических оттенков облака висели под мелкими звездами, ни на чем не держась в прозрачной пустоте; заглядывая туда, Софья Андреевна теряла равновесие и ступала пяткой в мягкую, сыпучую гряду. Она уже начинала всерьез беспокоиться о дочери. И вот в самом безнадежном, тощем, будто палкой расковырянном огороде, вытрясая из туфли, она заметила под кустами крыжовника ничком лежащую книгу с неловко подвернутым пластом страниц. Когда же Софья Андреевна, с трудом раздирая царапучие низкие прутья, добралась до находки, запачканная книга оказалась тем самым романом, который девчонка весь день не выпускала из рук. Наконец-то бесконечная худая полоса заборов, которая, то заедая, то расползаясь, то опять сходясь, не пропускала Софью Андреевну домой, внезапно раскрылась, как замок «молния», и освободила нужную складку местности. Книга была не только указанием, но и как бы поводом вернуться, делом, с которым Софья Андреевна могла уверенно войти в свекровью, неизвестно что готовившую ей избу. Держа сырую находку подальше от светлой юбки, она пошагала прямыми углами между гряд на резкий свет, косо выходивший между расхлябанных ставен.
Поднявшись в сени, Софья Андреевна увидела, что дверь чуланки распахнута: там горела, необыкновенно низко свисая на черном шнуре, белая, как яйцо, раскаленная лампа. Дочь, забирая скрещенными ногами глубоко под кровать, сидела на грядке провисшей постели, а перед ней толклась носатая стряпуха, переодетая в кримпленовое платье с узором из крупных ярко-синих роз, как бы дополнительно прикрывавших собой выпуклости крепкого, раздавшегося тела. Стряпуха тянула девчонку за руку, говорливо увещевая идти за стол. Та не сопротивлялась, но и не вставала на ноги, безвольно подаваясь и опять оседая, а пьяненькая стряпуха, будто играя в игру, со смехом ловила ее ускользающий локоть. Увидев растерзанную Софью Андреевну, всю в синяках, будто промокашка, собравшая помарки со множества страниц, обе замерли, и дочь поспешно засунула ладони под себя. Она неподвижно и тупо глядела на грязную книгу, за день превращенную в лохмотья, и ее опухшее лицо постепенно заливалось краской. Софья Андреевна даже не ожидала от дочери такого жаркого смущения, обыкновенно она с полнейшим бесстыдством разбрасывала вещи не только по квартире, но и по классу, по двору, могла, например, швырнуть свою кофту на чужую парту, совершенно не ощущая границы своей территории. Стряпуха, обнажая в неуверенной ухмылке мелкие черничные десны, повторила, что все уже за столом, что надо идти к столу. Тут же, руша утварь в углу, распахнулась сырая дверь во внутренние комнаты избы, и маленький разгоряченный мужичок в измятом пузыре нейлоновой рубахи увлек стряпуху рывком в визг и дребезг пляшущего праздника. Ни слова не говоря, девочка слезла с кровати и странно тесными шажками, источая какой-то незнакомый кисловатый запашок, прошла мимо матери в избу. Софья Андреевна, отпрянув от качнувшегося жара голой лампочки, на мгновение резко выбелившей ее известковую щеку, решила, что вытерпит этот вечер до конца.
В избе большая давешняя комната была теперь загромождена составленными столами, настолько разными по высоте и ширине, что сидящие, казалось, с трудом выносили такую неудобную близость: одни, со своими тарелками и разговорами, оказывались буквально за спиной у других, и передние без конца оборачивались, чтобы чокнуться стопкой или вовремя вставить словцо. Со стола на стол передавались эмалированные миски, целые тазы с горячими пельменями, исчезавшими с такой невероятной скоростью, будто они уходили паром к синюшному потолку, раскармливая там бесформенные пятна с глазами: эмбрионы чьих-то кошмарных снов. Свекровь полулежала на койке в повязанном кем-то ради шутки пионерском галстуке. Иногда она, неловкая, костяная, вставала во весь рост за спинами пирующих и, шатаясь на скрипучей сетке, простирала заплесневелую руку у них над головами, требуя себе закусок со стола,– но ни один не обращал на бабку ни малейшего внимания. Чашка, полная до краев, и вилка с пельменными лохмотьями на зубьях качались возле нее и капали жирным соком на рыжее одеяло.
Свободных мест за столами, похожими на какой-то неостановимый конвейер с разобранной работой, не было вовсе: расторопные женщины, приносившие из кухни новые порции горячего варева и бледного винегрета, ели, прислонясь к дверным косякам, или вылавливали, осторожно беря их с ложки оскаленными зубами, большие пузыри пельменей, то и дело всплывавшие в одной из двух огромных, заливавшихся кипением кастрюль. Однако, заметив чужих, повинуясь взмахам рук вскочившей кримпленовой стряпухи, застолье начало сдвигаться на своих разномастных сиденьях: буквально каждому пришлось привстать, чтобы не глядя плюхнуться рядом неизвестно на что, и лишь после двойного тесного перебора освободился край, по-видимому, доски, обернутой полосатым половиком. Поднимаясь, отрываясь на полминуты от разговора и компании, все эти одинаково плотные мужики и бабы как бы являли себя отдельно и в рост, и первым Софья Андреевна узнала давешнего гармониста – он то и дело с резким ломаным звуком сжимал свой норовивший свеситься до полу инструмент,– и сразу вслед за ним увидела Ивана. Он был теперь не в лохмотьях, а в чистом светло-сером, явно чужом пиджаке – будто в чьих-то просторных, неловких, ватными лапами взявших за плечи объятиях,– и сидел как жених, выложив на край стола заскорузлые дрожащие кисти. На давней его и Софьи Андреевны свадьбе эти руки точно так же лежали на ярко-белой скатерти параллельно нетронутому прибору: перед тем как подняться на выкрики «Горько!», он растерянно вытирал их об себя, и жених с невестой не столько прилаживали губы к губам, сколько шептались, успокаивая друг друга, в то время как набегавшие гости норовили сгрести молодых и лепились поверх их некрепких объятий, чокаясь водкой через их сутулые плечи. После свадьбы в поцелуях так и осталась непонятная помеха как бы недосказанного слова, несовпадение слишком твердых, ничего не достигавших половин. Оглядывая исподлобья совершенно не запоминавшихся соседей – казалось, исчезавших из памяти, чтобы еще несомненнее, всем своим грузным телесным составом, усесться за столы,– Софья Андреевна подумала, что и двенадцать лет назад они вполне могли присутствовать и располагаться в таком же точно порядке на ее незадачливой свадьбе.
Но теперь рядом с Иваном, то и дело выпрямляя его несильным хлопком по спине, сидела совсем другая женщина. Это, видимо, и была его сожительница, почтальонка Галя. Софья Андреевна не удержалась, чтобы не рассмотреть украдкой ее молодое круглое лицо, бордовые большие щеки, покрытые белесым, как бы седым пушком, бледные навыкате глаза, почти неестественно светлые волосы, собранные сзади в вертлявый хвостик, сплошной окат подтянутой груди, придававший Гале сходство с водочной бутылкой. Почтальонка, в отличие от Ивана, упорно смотревшего под стол, то и дело взглядывала на Софью Андреевну, ладонью обметая с бюста хлебные крошки, и как только застолье затягивало песню под прерывистые переборы гармони, буквально задыхавшейся в тесноте, Галя хватала безучастного Ивана под руку и вступала поперед других сильным, но неверным голосом, очень скоро доводя себя до вдохновенных слез, увеличительных, как сильные очки. Должно быть, Галю предупредили о приезде Ивановой бывшей жены, и она постаралась одеться наряднее, но смогла всего лишь прибавить к белой тугой водолазке хомут облупленных бус, которые, если бы не блестели кое-где, вряд ли вообще могли считаться украшениями. Софья Андреевна, в отличие от нее, хотела быть сейчас как можно незаметнее и страшно досадовала на свои синяки, которые успела рассмотреть, проходя, в наклонном желтушном зеркале над рукомойником. Постепенно Софья Андреевна убедилась, что почти у всех веселых, горланящих баб имеются такие же отметины – а у одной нестарой, завитой барашком, целых пол-лица было цвета перезрелой сливы, и она осторожно сосала водку здоровым углом искривленного рта, странно при этом подмигивая. Скоро Софья Андреевна сообразила, что именно синяки придают ей сейчас более или менее нормальный и даже замужний вид. С тайной гордостью она представила, сколько всего ей пришлось бы растратить и позабыть, чтобы на самом деле уподобиться этим женщинам, готовым сносить побои, только бы с ними делали физические безобразия, добывая из-под одежды их картофельные прелести,– только бы признавали ценность того единственного, чем они располагали как действительно и полностью своим.