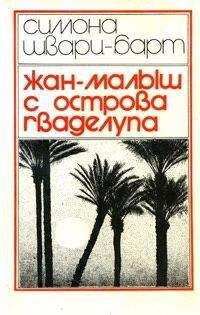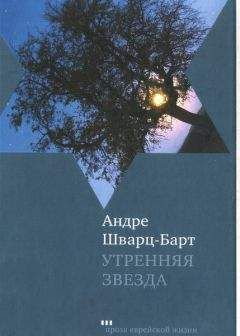Рядом с ворохом одежды лежал мушкет Вадембы, пояс, браслет, рог с порохом, котомка матушки Элоизы, перевязь которой все еще огибала плечо раскинутой на земле рубашки. Он поспешил представить себя человеком. Мир людей казался далеким, недостижимым, и он уже было подумал, что сознание птицы не способно постичь его, как вдруг подхваченный легким воздушным порывом, он переместился в тело человека, стоящего на гладких и черных человеческих ногах. И тогда, грустно взглянув на него своими бесцветными глазами, излучавшими неизбывную каменную скорбь, несмотря на улыбавшийся старческий черный рот, старый Эсеб изрек:
— Отныне, мальчик мой, ты принадлежишь к древнему, благородному роду воронов. Иди, отправляйся в свой путь, имя которому мрак и слезы, горе и кровь, и да помогут тебе боги…
Выслушав это напутствие, Жан-Малыш покинул сборище духов, и долго еще помнились ему глаза старого Эсеба, которые были как призыв, как тихое предостережение, как рука, опустившаяся на лоб умирающего ребенка…
Проходя мимо открытой могилы, он поклонился исполинскому скелету, и ему вдруг захотелось почтить память деда выстрелом. Он проверил затвор мушкета и обрадовался, когда боек выбил из кремня искру. Потом, насыпав в ствол немного пороху и утрамбовав его тонкой палочкой, он опустил пулю на пыж из клочка травы, как это делали старые охотники, имевшие древние ружья. Но едва он поднял ствол к звездам, как увидел в вышине лицо Эгеи, и вмиг намерение его показалось ему пустым и никчемным, как, наверное, были пусты и никчемны надежды, возлагаемые Вадембой на внука, воина совсем иных времен, готового вступить в сражение, которое, похоже, никогда не состоится. В самом деле, жизнь казалась лишь одним вечным падением, темным спуском, по которому катишься все ниже и ниже в бездонную пропасть; и, закинув мушкет за спину, Жан-Малыш покинул развалины деревни, которая выла, стонала на ветру, как гибнущий в бурю корабль…
Звезды уже начинали гаснуть, когда он приблизился к видению на краю болота, там же, где он впервые повстречался с Чудовищем. Оно лежало в высокой траве, опустив морду на подвернутые в коленях ноги, и поднимавшийся от воды туман придавал этой громадине совсем сказочный вид: казалось, дух покоится на ложе из облаков. Жан-Малыш даже залюбовался его необъяснимой, жутковатой красотой. Неслышно приблизившись, он заметил в широком ухе Чудовища пеликана — тот, похоже, тоже спал, веки его были дремотно прикрыты, а желтый мешок под клювом мерно вздымался и опадал. Электрическое излучение Чудовища почти не ощущалось, и, подойдя почти вплотную, наш герой увидел сквозь Длинные старушечьи волосы его кожу: она казалась маслянисто-мягкой, а изнутри отливала перламутром морской раковины…
Жан-Малыш обошел пожирательницу миров, приблизился к пасти и замер в нерешительности, обливаясь мерзким липким потом. В приоткрытую челюсть как раз могло пройти человеческое тело. Под блестящими ноздря ми коровы, влажными от желтовато-пенистой слюны, виднелся ряд зубов, ехидно блестевших в какой-то дьявольской усмешке. Старый Эсеб сказал, что все живое оставалось внутри Чудовища целым и невредимым, да-да, он так и сказал: целым и невредимым; и, прижав мушкет к груди, наш герой осторожно занес ногу, а потом опустил ее в глубь пасти, по ту сторону зубов…
Из нее вы узнаете, как Жан-Малыш очутился в стране своих предков, в которую он попал через открывшуюся в желудке Чудовища пропасть; а также о том, как он провел там свой первый день. Ох, горе горькое, беда, да и только!
Итак, наш босоногий герой шагнул в другой мир, который открывался за голубовато-молочными, никогда не служившими по назначению зубами, покрытыми гладкой эмалью. Он все еще стоял в раздумье, крепко прижимая к груди мушкет, когда гигантский язык под его ступней вздрогнул и подался вглубь, будто устрица, на которую капнули лимонным соком. В тот же миг приподнялись огромные веки, и он почувствовал, что мягко и плавно, будто под воду, опускается в проем между челюстями, и где-то далеко мелькнул немой вопрос: что же в конце концов произошло, сам ли я по доброй воле бросился в пасть чудища или это оно меня сцапало?
В глубине зева, распахнутого, будто церковные врата, он заметил две высокие опоры, подпиравшие свод, головокружительная высота которого никак не вязалась с наружными размерами Чудовища; он безропотно нырнул вверх тормашками в черноту желудка, беспокоясь лишь о том, как бы не выронить мушкет и котомку матушки Элоизы…
Его удивляла плавность падения. Проход беспредельно расширился, вокруг уже ничего нельзя было различить. Он широко, словно крылья, раскинул руки и мягко опускался, глядя вниз, в бездонную пропасть. Этот полет порождал удивительный покой. Глубоко, полной грудью вдыхал он свежий черный ветерок, ласкавший щеки. Вокруг роились тысячи звезд. Когда он, будто рыба в морской пучине, проплывал мимо них, они разрастались, потом вновь сжимались, совсем как медузы. То там, то здесь он смутно различал разноцветные солнца, луны, светившие только для себя, каждая на своем кусочке неба, а он все погружался и погружался в этот радужный океан, и перед глазами его маячило Чудовище, спящее на болоте, где-то там, высоко-высоко, по ту сторону искрящихся в бездонном чреве звездных сонмищ…
Тело свыклось с падением, приспособилось к нему, и в конце концов он заснул, сжимая в руках ружье и сумку, и душа его растворилась в ночном покое. Когда он вновь открыл отдохнувшие глаза, то увидел, что парит в усыпанном звездами бездонном небе. Внизу теперь плыли холмы и вспаханные квадратами поля, серебристо блестели извилистые реки. Потом он начал узнавать деревья, гваделупские деревья: пальмы, кокосы, бавольники; и, опустившись на землю в побеленной луной саванне, он радостно подпрыгнул и вновь упал в траву; он смеялся, плакал и опять смеялся, без устали терся щеками о свежую ночную траву и вдруг уловил что-то непривычное в запахе этого мира; тогда он сел и стал пристально вглядываться…
Все здесь было знакомо и в то же время удивительно. Пальмы, кокосы и бавольники, которые он заметил еще сверху, на земле выглядели как-то странно. Они казались выше, чем те, что росли на Гваделупе, было в них что-то дикое, грубое, не такое, как в родном краю. Горячий терпкий воздух, окружающая местность, расположение звезд на небе — все было непривычно, хотя Жан-Малыш нутром чуял, что мир этот ему не чужой: он вдыхал когда-то этот воздух, видел тревожный этот горизонт, таинственные созвездия на небе — не прозрачном, как над Лог-Зомби, а как бы забрызганном чернилами, какие выпускает из себя кляксами осьминог…
Он всмотрелся в приземистое дерево с раскидистой кроной, которая напоминала шляпку гриба, и произнес само по себе сложившееся слово: баобаб.
Всю ночь провел наш герой в саванне, вдыхая древние и новые для него запахи Африки. Иногда он ласково проводил ладонью по камню или пучку травы, и все его существо до кончиков пальцев пронизывало чувство единения с природой, ощущение того, что он так же принадлежит ей, как этот камень и эта трава. Ничего подобного никогда не случалось с ним на Гваделупе, где вокруг покрывала тонкая пелена отчуждения, где ему ручалось иногда терзаться мыслью, что он живет изгоем на родной земле. И он наслаждался этой близостью к траве, камню, впивал в себя неясные голоса, восходящие нему из земных недр. Но вдруг на него нахлынули воспоминания, и безмятежный покой оборвался с криком Эгеи, раздавшимся там, под фиговым деревом, из гигантской пасти Чудовища…
Утренняя заря осветила гряду долгих, плоских холмов, уходящих морскими волнами за горизонт. Опираясь на ружье, Жан-Малыш поднялся на ноги, медленно и боязливо огляделся вокруг. В Лог-Зомби солнце всегда вставало из-за моря, со стороны причала, и заходило между вулканом и раздвоенной горой под названием Два Соска. Вот почему юноша зашагал на восток, в полной уверенности, что встретит на пути город, вроде Пуэнт-а-Питра. Вдали начинала вырисовываться горная цепь. Рощи, встречавшиеся на его пути, редели, над низкой лесной порослью вставали гигантские деревья, диковинные звери, будто сошедшие с книжных картинок, — антилопы, зебры и жирафы — замирали, ласково смотрели на него и бес шумно кидались прочь. Все это так совпадало с его представлениями об Африке, что он было подумал: а вдруг она ему только снится, снится прямо на ходу, пока он спокойно шагает по высокой, насквозь мокрой от росы траве; а может быть, эта страна предков лишь плод воображения Чудовища, которое уготовило ему родину по его вкусу, с привычной сменой дня и ночи, с таким же, как в Лог-Зомби, солнцем. Правда, это солнце ярче пылало в небе, явственней трепетало в багровых переливах зари и гораздо больше походило на пятно крови…