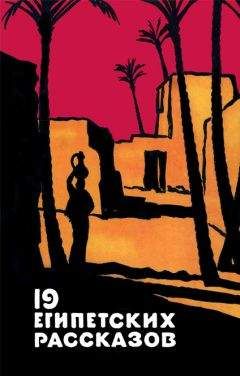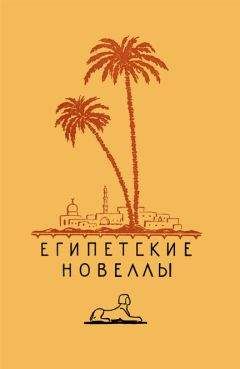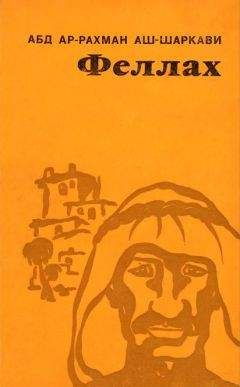Человек, рассказавший мне о Хайрии, не представлял, что встретит ее там. Муж ее остро ненавидел пришельцев, этих врагов арабов и ислама, а она была неприхотлива и терпелива и умела довольствоваться малым. Сама ее природа восставала против соблазнов. Хайрия знала в жизни лишь горькую борьбу за кусок хлеба.
Но этот человек услышал ее историю и все понял.
Муж Хайрии умер во время эпидемии холеры, оставив троих малышей сиротами. Хайрия продолжала скитаться в поисках пропитания для них, пока голод не забросил ее в лагерь оккупантов, где для нее и для ее детей нашлись работа и крыша над головой. Она стирала солдатское белье, ее старший сын был кочегаром на паровом баркасе, перевозившем провиант через канал, а второй сын поступил рабочим на завод боеприпасов.
Хайрия прожила там год с лишним. Она была сыта и одета. Скрытый гнев, который много лет бушевал среди египтян, не доходил до нее. Но наконец он прорвался, потряс страну, подобно взрыву, и разбудил Хайрию, так же как многих египтян, которые работали на оккупантов.
Хайрия была охвачена паническим ужасом. «Неужели я служила врагам моей страны?» — спрашивала она себя. Она убежала вместе с детьми, отвергнув отравленный кусок, который протягивали ей враги, и снова стала бродить по дорогам, голодная и бесприютная, спрашивая у каждого встречного:
— Простит ли меня аллах?
Прошло несколько дней, и мы услышали, что она пошла на линию огня, желая искупить то, что считала своей виной и грехом. Египтяне зажгли священный огонь, для того чтобы очистить свою славную землю от низких людей, которые попирали достоинство страны. Чтобы поддержать этот огонь, Хайрия предложила самое дорогое, что у нее было, — жизнь.
Дневник Хикмат Ханум
(мой дневник до замужества)
Перевод К. Оде-Васильевой
1 марта 1919 г.
Я сидела рядом с мамочкой у окна, выходящего на улицу. Она молча смотрела на меня глазами, полными материнской любви и скрытой печали. Бедная мамочка! Ее огорчает то, что я в двадцать лет еще не замужем, в то время как дочери ее знакомых вышли замуж в тринадцать-четырнадцать лет. Ей хочется видеть меня замужем и счастливой. Но разве счастье в браке? Разве она счастлива в своей супружеской жизни? Она, которая умирает от ревности ко второй жене моего отца. Разве моя подруга Ихсан Ханум счастлива со своим мужем Мухаммадом Беком?.. О, если бы я смогла убедить мамочку, что я довольна своей жизнью и не хочу никаких перемен!
10 марта
Сегодня нас посетили две незнакомые женщины, одна из них среднего роста, закутана в дорогое покрывало, на лице прозрачная вуаль, сквозь которую видно серьезное лицо. Надвигающаяся старость уже наложила на него отпечаток. Другая «мещанка» с открытым лицом, покрывало на ней старое, рваное…
Как только я их увидела — тут же поняла цель их визита и, не дожидаясь указания мамочки, пошла сразу к себе в комнату надеть лучшее домашнее платье, причесаться и покрыть свое восковое, бледное лицо румянами и белилами, чтобы понравиться посетительницам.
Едва я начала приводить себя в порядок, как вошла мамочка с радостной улыбкой и сказала: «Будь готова, Хикмат… Мать Хасана пришла на тебя поглядеть».
Я притворилась безразличной и сухо спросила: «А кто вторая женщина, которая пришла с ней?» Но мама, не ответив мне, поспешно вышла из комнаты, чтобы не оставлять посетительниц одних.
Я почувствовала, как жар разливается по всем моим жилам. Это было какое-то новое ощущение. «Неужели меня радует замужество? — подумала я. — Или, побуждаемая женским инстинктом, я хочу показаться им красивой? Для чего? Для того, чтобы сказали обо мне, что я прекрасна, как луна, или чтобы хвалили меня лживыми, глупыми словами?» Я попыталась разобраться в тех тонких чувствах, которые мною овладели, но не смогла, ибо не привыкла серьезно задумываться. Скорее всего это было простое любопытство, стремление познать неизвестное.
Посетительницы встретили меня очень приветливо и ласково, особенно «мещанка», которая осыпала меня льстивыми, лживыми словами. Затем наступило молчание. Мать Хасана внимательно осматривала меня. Ее острый, проницательный взгляд, казалось, сразу меня раздел. Я смутилась и опустила голову. Сваха заметила это и поспешила сказать: «Подойди, сестрица, я посмотрю на твой носик, похожий на лотос, и на твой ротик, похожий на соты». Затем повернулась к матери жениха и добавила тоном, не допускающим возражений, как будто утверждала неопровержимую истину: «Кто посмотрит на Хикмат Ханум, скажет, что она еще в прошлом году играла с детьми на улице… Она ведь еще совсем ребенок, о госпожа, мать Хасана». Женщина ответила ей деликатно: «Разве это не видно по ней, сестра моя?»
Несомненно, она сказала это лишь из любезности, потому что я прочла на ее лице недоверие.
Сваха после каждой наивной фразы бросала незаметный взгляд на мамочку, как будто говоря: «Видишь, какую ценную услугу я оказываю тебе? Не забудь при расчете хорошо меня отблагодарить».
Мама молча безнадежно кивала головой.
Я стала наблюдать за госпожой Хасан. Она продолжала внимательно рассматривать меня. Я почувствовала, как ее острый взгляд пронизывает мое тело, и заволновалась. Мое волнение увеличилось, когда она сказала мне: «Заклинаю тебя пророком, о дочь моя, дай мне стакан воды напиться».
Она, конечно, не хотела пить, но ей хотелось увидеть, как я хожу, как сложена. Я встала и попыталась идти красиво, степенно, однако, зная, что ее острый взгляд следует за мной, я еще сильнее разволновалась и начала спотыкаться, затем мне показалось, что я внезапно остановилась. Подавая воду, я извинилась и, сославшись на головную боль, ушла к себе в комнату. Я смеялась и сердилась на себя.
Спустя некоторое время я услышала, как эта госпожа, прощаясь с мамочкой, сказала церемонно:
— Окажите нам честь и пожалуйте к нам.
Мама ответила:
— Мы будем считать за честь вас посетить.
Что за сухие церемонии… видно, я ей не понравилась! А может, она нашла, что я стара для ее сына?
15 марта утром
Меня одолела тоска, которая часто на меня нападает. Я не знала, куда от нее деться. Обычно при таком настроении я поднимаюсь на крышу дома, сажусь и смотрю в бесконечное пространство, дышу свежим, оживляющим воздухом. Однако, если это не помогает мне, я прибегаю к чтению. Но не успела я прочесть и нескольких страниц, как заметила, что ничего не понимаю из прочитанного. Тогда я в отчаянии бросила книгу. Голова болит, мысли туманятся, и я долго не могу отделаться от этой скверной болезни, которая быстро проникает в сердце и наполняет грудь убийственно черной меланхолией.
25 марта
Сегодня я села читать, а няня, Умм Мухаммед, устроилась у моих ног. Она женщина болтливая. Моя мать зовет ее в часы скуки, чтобы та развлекала ее рассказами о древних героях и анекдотами. Я читала повесть о Зейнаб. Не успела я углубиться в переживания этой деревенской египетской девушки, чья чисто арабская поэтичность так редко встречается у наших безграмотных крестьянок, как Фаттума привела мою подругу Мари Наум. Мари Наум — сирийка. Мы с ней сдружились еще в школе и продолжаем дружить до сих пор. Фаттума знала, что ее приход рассеет мою тоску. Мы поговорили о разных вещах и незаметно затронули вопрос о свободе женщины… Я начала ругать эту свободу, портившую нравы многих европейских девушек, и с уважением отозвалась о наших восточных традициях. Она же с жаром ревностно защищала западные веяния, опровергая мои слова. Она считала, что чувство любви у девушки, снявшей покрывало и освобожденной от цепей старых традиций, не подвержено иллюзиям, а у девушки, носящей покрывало, иллюзии заслоняют мир. В подтверждение своих слов Мари Наум сказала: «Покрывало, лишающее восточную женщину общения с мужчиной и как бы отгораживающее ее от общества, сохраняет наивность женщины и усиливает в ней воображение, а ничто так не действует на любовь, как воображение. Эта женщина смотрит на неведомый ей мир невинным взором, она смотрит на него через очки воображения, а не глазами обнаженной правды. Это облегчает юноше обман. И если он притворится, что любит ее, и шепнет ей на ухо несколько нежных, приятных слов, она ему поверит, ибо она наивна душой и чиста сердцем». И прибавила:
— Современная девушка, свободно общающаяся с мужчинами, скорее отвергнет юношу, чем даст ему обмануть себя, потому что она владеет своими чувствами, направляет их, как хочет, и слепо не подчиняется их власти.
Я долго думала, пока писала эти строки, о необычных словах моей подруги и пыталась опровергнуть их. Да, она ошибается, ошибается. Приукрашенная, мнимая свобода испортила ее воображение, отравила ее чувства. Можно ли бросить такое ложное, безобразное обвинение нашим старым, благородным традициям?