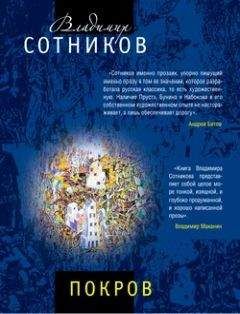Он поднялся, вышел на улицу. Был предрассветный час. «Хорошо бы так рано всегда вставать и смотреть на все это каждый день», – подумал он. Небо на востоке быстро яснело – все было спокойным, но чувствовалось в воздухе какое-то напряжение.
Он попробовал представить, что сейчас вечер, – внешне было похоже. И никак не получалось – не хватало этого напряжения. Он озяб и вернулся спать.
И сон продолжался. Он уже лез на дерево, и все вокруг раскачивалось. Болели ладони – совсем как в детстве, когда лазал на высокие дубы с глубокой и грубой корой.
Ничего не горело – все было обычным, только странно покачивалось. И он лез по суку, обняв его, все дальше и дальше от ствола. Сук становился тоньше с каждым усилием. Он полз и знал, что надо приостановиться и вспомнить, зачем он здесь, и если этого не сделать, то случится что-то страшное, чего он боится. Но никак не мог приостановиться, и только с каждым новым мгновением все больше и больше чувствовал, что вот-вот – и будет поздно. Надо обязательно вспомнить, зачем он залез сюда, – но полз и не мог остановиться. Сук качался все больше, это был уже и не сук, а пучок веток на его конце. И они не возвращаются в верхнее положение, а свисают тяжело книзу. И он свисает вместе с ними – успевает посмотреть на свои руки. Под ладонями – стершиеся листья. Он думает: «Это все, что меня держит», – и начинает вспоминать.
– Как же долго я вспоминаю – листья же совсем слабые…
Он вспоминал – это были и не воспоминания, а такие же сны. Но он явно знал, что все это с ним было на самом деле. И остального ничего не было, а были только эти воспоминания.
Они с братом топят баню. На дворе холод, и они хотят согреться в бане. Уже все готово – они залезли на полок. Сейчас он поддаст пару. Берет ковш и плещет на камни. Вода не шипит. Она стекает по камням, и в бане становится еще холоднее. Он опять льет воду, и становится по-настоящему холодно, безо всякой надежды… Что делать – одеваться?.. И от этой мысли становится страшно и безвыходно.
И он вспоминает дальше.
Он видит ее – она такая родная и близкая, что он не может ничего сказать, только смотрит на нее и боится, что она отойдет куда-нибудь, он даже не дышит. Возле них маленький мальчик – наверное, их сын. Мальчик совсем маленький, ничего не понимает и куда-то пошел – в сторону. Ее глаза провожают немного ребенка, и она хочет побежать за ним. Но ее не пускают сильные руки – они обняли и никак не могут разжаться. Он так сильно обнял – и не может отпустить. Она вырывается, а мальчик уходит, и вот уже совсем его не стало видно. Хочется кричать, а голоса нет. И все так ясно, как рано утром – и холодно так же, и напряжение во всем. И он понимает, что это страх, безысходный страх.
Отец ему рассказывает свой сон: еще молодой, он бежит по огромному полю, и так легко бежать, что ноги срываются и едва касаются земли. Легкость во всем: и в его теле, и воздухе, и земля такая невесомая под ногами. Отец бежит, все больше размахивает руками, и ног уже не слышит – и взлетает. И летит над землей, не чувствуя тела, только воздух пощипывает глаза.
И он сам, вспоминая этот отцовский рассказ, бежит по полю, но тяжело бежать, ветер давит грудь, ноги тяжело стучат по земле. Он разгоняется все больше, и на миг кажется, что совсем легко стало – но сразу пугается, что все равно не взлетит. Бежит он долго и ровно, тяжело вбивая ноги в землю. И кажется, что нарастает этот топот, и успевает он подумать, что так же шумел тополь возле дома. Казалось, что шум его листьев нарастал постоянно, но это только казалось. Тополь всегда шумел одинаково. И вот он бежит, с покорностью и страхом подчиняясь тому постоянному зову, что действовал на него в эти минуты. И опять ему кажется – надо что-то вспомнить, только остановиться для этого. А остановиться нельзя – топот его ног все время нарастает.
И знал он, что можно бежать еще быстрее.
Утром он просыпался, будто и не спал вовсе – слабость была во всем теле, и не хотелось даже пошевелиться.
Звали завтракать, потом он шел работать, и так проходил день. И с каждым днем он слабел все больше.
Сегодня он тащил тачку с сеном, и пот капал с кончика носа. Он смотрел, как раскачиваются капли, и пробовал представить себя лошадью. Дыхание рвалось, обидно было за слабость в ногах, но не было так страшно, как во сне. Он подумал: «Приду домой – выпью много молока. Силы восстановить надо». И долго, весь путь, думал о том, как бы себя подлечить. Он знал много способов, и интересно было их все сейчас перебирать в памяти.
Что бы он ни делал днем, все чувства не были ясными, и за этой неясностью была надежда. На то, что ему станет лучше, на то, что непонятно брезжило впереди, до чего хотелось дойти.
Было интересно идти и просто думать: «Что это со мной такое?..» – и даже какой-то мотивчик находился для этих слов.
И жизнь разделилась на две части: на ясное время ночных снов и воспоминаний и на неясное время дня.
Он решил сходить к бабушке. Та лечила шептанием. Вечером собрался и пошел, никому не сказав. Бабушки дома не было, и часа два ему пришлось вести беседу со своей теткой. Он почти ее не слушал. И только однажды насторожился, когда она заговорила о бабушке.
– Я вот думаю: как это моя мать до таких лет дожила и еще такой веселой держится? Как-то она все время надеялась – в войну надеялась, что та кончится, когда муж бросил, надеялась, что он вернется, и так всю жизнь. Наверное, эта надежда и давала ей силы для жизни.
То ли сказано было по-книжному, то ли еще почему, но стало ему скучно. И сразу пожалел, что пришел.
Но уже открылась дверь, вошла бабушка. Через несколько минут он пил наговоренную воду. Было противно ее пить. Но быстро выпил, умылся ею, поблагодарил и вышел.
На улице свежий воздух. Закат еще не успел догореть. И похоже на раннее утро. Он вспомнил, как вставал утром, как выходил на улицу.
И вспомнил то чувство, которое владело им тогда, – страшное напряжение. Казалось, что кончилось все, что знал о себе в ту минуту, и неизвестно, каким будет следующее мгновение. Хотелось приостановиться, подумать – что дальше? И не мог остановиться – притягивала пустота впереди, и сила эта постоянно нарастала.
Вспомнил затхлый воздух бабушкиного дома. И пошел быстрее.
Через час он спал, беспокойно вздрагивая.
Я уже не помню – кто это написал. Может быть, даже я сам. Все, что написано в этой тетради, когда-то могло быть и в моей голове. И я мог бы писать все это, поддаваясь мгновенному порыву, и потом забыть. Все возможно. Почерк незнакомый, но я давно не пишу и не знаю, какими выйдут буквы из-под моей руки.
Нельзя сказать, что я изменился за долгие годы. Мне кажется, я такой же, как и тогда, – и тогда я обладал уже, хотя и не понимая до конца, этой усталостью, какую я несу с тяжелым спокойствием теперь. Я – спокойный пленник, поддавшийся всему, чего не смог преодолеть.
И с таким же спокойствием, нет, не безразличием – спокойствием читаю эту тетрадь.
Мне нравится открывать ее на потрепанном развороте – тетрадь сама открывается на этой странице. Вверху справа написано бурным почерком, каким пишут, пробуя перо или рисуя непонятную фигуру: «Я никогда в жизни не говорил правды, никогда. Я не знаю, что это такое…» – и все это обведено широкой рамкой со многими завитушками по краям. Наверное, в задумчивости или просто так, уставившись в одну точку, автор долго водил ручкой по этой странице. И дальше потихоньку я долистывал до первой страницы и начинал читать:
«…Не знаю, к кому обращаться. Забирайте у меня все, только я не хочу с вами делиться – так мне ничего не сказать. Какая-то зараза все опутала. Она в воздухе, в воде, в пище – едкая на вкус, – хочется дышать, пить, есть, а получается все не так. Не надышаться этим воздухом, не напиться, не наесться. Больше всего этой заразы во мне. И я не могу с ней справиться, хотя и не знаю, как это все получится, если я справлюсь… Когда пишу, удивляюсь: как можно писать все то, что уже знаешь, что уже есть в голове? И единственное, что привлекает: каким все станет на бумаге? На бумаге все по-другому, и от этого тоскливо.
А спросили меня, хочу ли я этого, перед тем как я здесь оказался?.. Это все – невыносимый карцер, это – наказание, когда медленно к концу понимаешь, что ты ничего не можешь понять, не можешь найти в этом радости и, слабый, бессильный, злой до опустошения, никак не можешь сообразить – как же это так дано, чтобы человек понял свое бессилие, как у него, непонимающего, хватает сил, чтобы понять, что ему ничего не дано, что он – злой и бессильный, ничего не значащий и ни для кого…
Что толку, если я знаю – есть еще кто-то, кто видит меня каждый день. Я не хочу выяснять, что это такое – может, это болезнь моя, может, только кажется, – но это происходит со мной – и что толку…
Я уже научился ползать. Прижиматься к земле, чувствовать, что она при этом отдаляется от меня. Я ползу просто так, ничего не боясь, и начинает казаться, что меня размазывают, как неудобно толстый мазок на полотне. Я поддаюсь этой силе. Чем дальше я ползу, тем больше уменьшаюсь. Размазываюсь – и меня все меньше и меньше. Не зря я видел в детстве сон про бугристую и неровную поверхность, похожую на измятый кусок холстины; она медленно вытягивается, выравнивается – невыносимо это замечать, но я уже убаюкиваюсь и плавно двигаюсь по ровной поверхности, не встречая ничего. Затуманены глаза, забыты руки, ноги, забыто тело – есть только поверхность, медленно и устало ползущая под меня…»