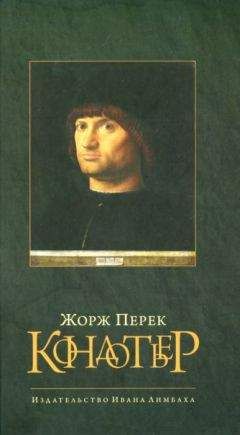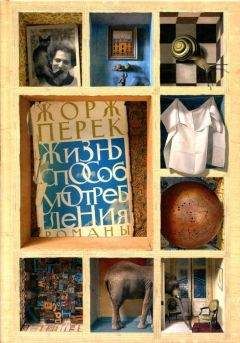Это и есть искусство? Выявление строгости, упорядоченности, необходимости? Как это касалось его? Как оправдывало? То, что вы сделали в Сплите…
Гаспар-фальсификатор. Слишком хорошо устроенная западня. Очевидность. Обманчивое впечатление безопасности. Искушение комфортом. Отстранение от мира. Простой и чистый отказ. Что он сделал за двенадцать лет?
Любое искусство подлога заключается в притязании. Сплитское сокровище — это три удара деревянной киянкой, листовое золото и серебро, бронзовые и медные детали, монетные штемпели. Бекер делал лучше. В случае с рабом, золотых и серебряных дел мастером, это была мнимая грубость, мнимое изящество, приблизительное знание текущих событий, более или мене точных данных о хронологии, календарях, божествах, генеалогиях. Детство искусства… Он знал кухонные рецепты. Gesso duro. Мелкозернистый гипс, медонская смесь, рыбий клей. А дальше? А дальше ничего…
А дальше Мадера умер. Возможно, уверенность имела смысл лишь на исходе неуверенного шага? Его победа? Уж наверняка не мгновенное торжество — торжество Кондотьера — в возвышенном и удовлетворенном спокойствии, а нечто медленно вытягиваемое из времени, с явным опасением в любую секунду сбиться, с боязнью — неведанной, нераспознанной, узнанной — совершить оплошность, промах. Новый приступ доверительности, новый жизненный поступок, последнее пари, упраздняющее случай, склоняющее чашу весов и переполняющее чашу терпения в гигантском крушении сомнений и навязчивых идей. Первое независимое деяние, первое свободное действие, первая очевидность сознания…
Ответ? Это очевидно? Еще не совсем. Может быть. А может быть, и «не может быть». Может быть, даже наверняка. Не раскрытие, не объяснение, не озарение. Было ошибочно полагать, что из простой мятежности, мгновенной и непонятой, уверенность забьет ключом. Что от простого мановения руки, как по волшебству, возродится жизнь, в которой ему отказывали. Прошедшие годы были мертвы и впредь уже не смогли бы ничто породить. Поскольку он еще не умер, то теперь крушилось, снизу доверху рушилось его прошлое. Возможно, смерть Мадеры была не нужна, но раз уж она случилась, сам акт должен был себя превзойти как неизбежное заключение, как очевидный выход из бессмысленной жизни. Разить следовало в голову…
Перед грациозностью того, другого лица подделка постепенно нагнетала панический страх и вызывала приступы безумия. Покинутая лаборатория стала местом окончательного краха. Его жизнь в его руках. Его действия. Телефонный звонок в белградской мастерской. Кабели, опоясывавшие землю… Сломя голову он бежал по улицам Гштада, крался вдоль стен как тень, черный силуэт в ночи… И с каждым шагом понимал, что приговорен без права обжалования. Осужден единодушно, за исключением одного голоса. Своего собственного…
— Три дня я прожил странно. Я вернулся в Дампьер, спустился в мастерскую; мне предстояло все завершить. Я попросил у Мадеры неделю. Говорили мы очень мало. Вечером он уехал в Париж на уикенд. Вернулся в понедельник, в одиннадцать часов утра, а в три часа я его убил. В его отсутствие я хотел взяться за портрет, но не смог. Он убрал из моего холодильника весь алкоголь; иначе, думаю, я бы вновь запил. В воскресенье я взял машину и поехал в Париж. И в очередной раз был готов не вернуться. Но почему-то все равно вернулся…
— Что ты делал в Париже?
— Заехал к себе. Нашел письмо Руфуса, который извещал меня о том, что приедет в понедельник. Я позвонил ему в Женеву, куда он приехал через несколько часов после моего отъезда из Гштада. Я хотел сказать, что жду его в Дампьере во вторник. Хотел объяснить ему, что у меня ничего не получилось, но не осмелился. Я сказал ему, что все будет закончено к его приезду. Он ничего не ответил и повесил трубку… Я вышел из дома, на набережной купил у букинистов несколько детективных романов и отправился в Лувр, в «семиметровый» зал, чтобы посмотреть на Кондотьера. Я простоял перед ним всего несколько секунд и вышел. Сел в машину, доехал до Версаля, погулял по парку. Там было почти безлюдно. Сел в машину, поехал ужинать в Дрё. Вернулся в Дампьер. Почти всю ночь читал детективные романы. Выкурил три пачки сигарет. В шесть часов принял ванну. Проснувшийся к тому времени Отто спросил, нужно ли мне что-нибудь в Дрё, куда он собирался ехать после обеда. Я ответил, что ни в чем не нуждаюсь. Выпил кофе. Снял чехол с картины и рассматривал ее часа два. Затем закрыл чехлом в последний раз. Было приблизительно десять часов. Я лег на кровать, открыл новую пачку сигарет и последний из детективов, купленных в Париже. В одиннадцать часов вернулся Мадера: он позвонил мне и спросил, на какой стадии картина. Я ответил, что закончу к вечеру; сказал, что накануне был в Париже, получил письмо Руфуса, который приедет на следующий день. Он попросил зайти к нему после обеда…
— Зачем?
— Он не сказал… Но это было не так уж и важно…
— Ему часто случалось вызывать тебя по телефону?
— Время от времени… Иногда, по вечерам, он спускался… После обеда почти всегда был у себя в кабинете, наверняка улаживал дела.
— У него не было секретаря?
— У него был секретарь в Париже, но я никогда не видел его… Позднее я узнал, что в Париже у него была квартира… И еще дюжина квартир в других местах…
— Во время изготовления Кондотьера он регулярно жил в Дампьере?
— Три четверти времени — да… Ему случалось уезжать раз или два…
— А Отто?
— Отто все время оставался в Дампьере. Он жил там уже пять лет. Охранял дом, когда Мадеры не было…
— А другие квартиры?
— Полагаю, у него были другие камердинеры…
— Как давно он сбывал подделки?
— С тысяча девятьсот двадцатого года. В то время ему было около двадцати пяти лет. Руфус только-только родился. Лет двадцать было и Жерому.
— Как это произошло?
— Жером был учеником Ичилио Джони, которого еще часто называли Федерико и который умер в сорок шестом году. Это был довольно ловкий тип, он работал главным образом реставратором, но почти все знали, что он делает копии. Я так никогда и не узнал, как они встретились: вроде бы к двадцатому году Жером искал скупщика и продавца и вышел на Мадеру…
— Откуда тот взялся?
— Откуда мне знать… Я долгое время думал, что он португалец. Они начали с импрессионистов, в духе Сислея и Йонгкинда: картины изготавливали и хранили в Танжере, на вилле, принадлежащей Мадере, и отправляли в чемоданах с двойным дном в Австралию и Южную Америку. Затем они усовершенствовали процесс: появились посредники, куртье, перекупщики, люди типа Сперанцы и Доусона, эдакие региональные ответственные, которые руководили целой сетью, иногда целой страной, — например, Николя заведовал Югославией, — постоянно рыскали по аукционным залам, выставкам, антикварным лавкам, музеям, редакциям и читали все специализированные журналы. Все было просто. Как только кто-нибудь начинал что-нибудь искать — мадонну XII века, редкую марку, голову кхмерского божка, идола банту, пейзаж Коро, карикатуру Домье, неважно что, — один их бесчисленных мелких агентов, субагентов, подсубагентов, распределенных по всем странам, отправлял сообщение своему руководителю, а тот переправлял его Мадере. Заказ принимался. Через несколько дней или — для более серьезных произведений — через месяц-два любителю предлагалась уникальная возможность…
— А сертификаты подлинности?
— Они у них были. До сих пор не знаю откуда. Поддельные или изготовленные специально замешанным в дело экспертом.
— Даже для картин?
— Даже для моих…
— Все эти заказы приносил Жером?
— Заказов было не так уж и много… В среднем один в месяц. Когда их оказывалось два, то мы выбирали более интересный…
— Это окупало всю организацию?
— Не думаю. Но для большинства агентов это была дополнительная деятельность. Полагаю, они получали тысяч по пятьдесят за каждый отправленный заказ. Было очень мало людей, оплачиваемых исключительно Мадерой.
— И полиция ни разу ничего не заподозрила?
— Насколько я знаю, нет…
— Но ведь Мадере приходилось как-то обосновывать свое состояние?
— Я так и не узнал, как он выкручивался. Об этом Руфус не рассказывал…
— Когда Руфус к ним присоединился?
— В сороковом. Ему было лет двадцать, он только что унаследовал живописную галерею в Женеве, куда сбежали Жером и Мадера. Думаю, сначала Мадера поддержал или выкупил галерею, которая была на грани разорения, а потом воспользовался ею как ширмой.
— А ты начал в сорок третьем.
— В это время я поступил в ученики. А фальсификатором стал только в сорок седьмом…
— И сколько подделок ты сделал в общей сложности?
— Добрую сотню… Сто двадцать, сто тридцать… Я быстро перестал их считать…
— И это всегда тебя забавляло?