«Что-нибудь случилось?» — спросила она.
«Ничего».
Но это «ничего», произнесенное с пытливой задумчивостью, нет, скорее с недоумением, с какой-то растерянностью, заметной даже по уголкам рта, заставило ее спросить еще раз: «Не чувствуешь? А мог бы. Ведь я отдала за это пятьсот салфеток». Он покачал головой: «Я ничего не чувствую». — «Вообще ничего?» — «Да. Уже три или четыре дня. Вообще ничего». Он уставился в пустую тарелку; вид у него был жалкий.
Они лежали рядышком на матрасном плоту. Она провела рукой по его пупку, выковыряла оттуда скатавшиеся в комочки ворсинки от белья. «Проклятье, — сказал он, — как болит рука. Я не могу на нее опереться». «Ах, — подумала она, — сколько же поз мы испробовали, не опираясь на руки». Но вслух произнесла: «Да ладно. Лежать вот так, рядом друг с другом тоже хорошо».
«Что можно сделать, — спросила она Хольцингера, — если человек неожиданно теряет вкус?»
«Обычно он возвращается, — ответил Хольцингер, — происходит своего рода засорение вкусовых луковиц. Они должны снова очиститься. Это у кого же?» — спросил он, хитро глядя на нее. Естественно, он тотчас подумал о начальниках, которых кормил. «У одного знакомого». — «Он потерял аппетит?» — «Да нет, аппетит отличный. Послушай, — вспылила Лена Брюкер, но тут же взяла себя в руки и лишь со злостью в голосе громко задала беспокоивший ее вопрос: — Отчего это происходит?» — «Недовольство собой, — сказал Хольцингер, который не читал Фрейда, хотя и был из Вены, — тоска». — «А как избавиться от этого?» — «С помощью базилика. Но у нас его нет. Еще лучше имбирь. Известная пряность от меланхолии. Этого тоже нет. Или кориандр».
— Ах, вот и колбаса «карри», — не утерпел я, — да?
Фрау Брюкер перестала вязать, посмотрела на меня и сказала довольно строго:
— Ну если ты знаешь, то давай рассказывай.
— Капитан Фридлендер, — сказал я.
— А что с ним?
— Вы спросили капитана Фридлендера о карри.
— Не-а, так просто бывает только в романах. Если бы все произошло так, как ты думаешь, то ты никогда бы не попробовал колбасы «карри». Будь у Фридлендера порошок карри, я бы уж, во всяком случае, приготовила с ним рис. Но никогда бы в жизни колбасу. Собственно говоря, колбас тогда ведь не было. Кроме того, в ту пору у англичан карри тоже не было. Продовольственные поставки налаживались очень медленно. И Фридлендер сказал: «Карри — омерзительная вещь. Что-то вроде индийской приправы "Магги"». Кёнигсбергские клецки, вот что он любил.
— Вот видишь, — произнесла она, считая петли. Я ждал. — Ты сильно ошибся. Придется тебе еще чуток потерпеть.
Бремеру было совсем нечем заняться. Он придвигал к окну стул, клал на него большую подушку, чтобы повыше сидеть, и наполовину прикрывался шторой. Ставил на подоконник солонку с солью, макал в нее палец и облизывал его. Он не ощущал вкуса. Не слышал запаха. Лишь раздражал слюнные железы. Внизу, опираясь на клюку и костыль, ковылял инвалид войны. «Выходит, можно потерять вкус, как ногу». На самом деле он просто тешил себя надеждой, что вкус непременно вернется, точно так, как однажды в детстве, когда он потерял обоняние из-за глистов; потом, после специального лечения, оно вновь вернулось к нему. Сверху послышался гул пролетавшего истребителя. Может, они используют сейчас против русских чудо-оружие? А может, это самолет, управляемый автопилотом. Он не верил в это до тех пор, пока не увидел однажды Me-136, летающее яйцо, первый в мире реактивный самолет, маленькую округлую машину с короткими, словно обрубленными, крыльями, которая вылетела из бомбардировщика с помощью реактивной струи и, падая, уничтожила одну, две, даже три из этих летающих крепостей, потом спланировала на землю, но приземлилась неудачно и взорвалась. Если б только не произошел этот взрыв при приземлении, то у нас было бы поистине чудо-оружие, подумал он тогда. Бремер набрал немного соли на кончик пальца. Он надеялся, что вкус вернется так же неожиданно, как и исчез. Облизнул палец. Ничего. Быть может, подумал он, это плата за то, что я сбежал, что дезертировал, что был трусом, нет, что я — трус. Удивительно, но лишь теперь, после потери вкуса, он стал задумываться над своим побегом.
Может, и в самом деле человек навсегда лишается чего-то, если сдается в плен, дезертирует, бросает в беде других, быть может, в нем рвется что-то невидимое, свойственное ему? — размышлял он. Об определенных вещах я просто обязан умолчать, от ответа в будущем на определенные вопросы предпочту уклониться, если только меня все-таки не схватят, потому что, хотя они и распустили СС, по улицам все равно будут ходить патрули, теперь уже из английских и немецких военных полицейских.
Он закурил дорогую английскую сигарету и не ощутил ее вкуса. Его язык ничего не чувствовал, он омертвел. Может, это из-за курева? Я много курю, подумал он, но тут же отбросил эту мысль. Нет, курево тут ни при чем, это из-за того, что ты позволил женщине спрятать себя. Ты просто мерзавец.
— А мог желудевый кофе убить вкусовой нерв, так сказать, задубить его, как утверждала моя мать? — спросил я фрау Брюкер.
— Чушь, настоящая чушь. Этот слух распустили конкуренты. Мой желудевый кофе вообще был отменный. У него был аромат настоящего кофе, потому что вместе с суррогатом и щепоткой соли я клала еще несколько молотых зерен хорошего кофе.
Не-а, он просто свихнулся. Ведь ему приходилось торчать в квартире одному самое малое по девяти часов кряду. Утро еще было как-то заполнено домашней работой, а вот после полудня время тянулось медленно. Даже если учесть, что уличная жизнь сильно переменилась по сравнению с прежней, не видно стало изможденных женщин, таскавших ведра с водой, в этом уже отпала необходимость, поскольку заработал водопровод, зато теперь на этой улице собиралась по-настоящему разношерстная публика, женщины в элегантных костюмах приходили сюда из Эппендорфа и Харвестехуде, чтобы обменять здесь, на Брюдерштрассе, кое-что из фамильного серебра. К тому же поблизости находился порт, и многие из обитателей этого квартала работали в нем, а там при разгрузке все чаще разбивались ящики, в пакгаузах неожиданно находили разорванные блоки сигарет, просыпанные из мешков кофейные зерна, связки бананов. Спекулянты предлагали прямо на улице и в подъездах домов сало и колбасу. Бремер разглядел в бинокль серебряную булавку для галстука в руке какого-то мужчины, эта рука опустила ее в карман пальто и вытащила оттуда три круга копченой колбасы, которые тотчас ухватила рука другого мужчины. И потом, этот несмолкаемый гул. Первые дни его почти не было слышно, только если осторожно приоткрыть окно. Но если окно открыть, то оно должно оставаться открытым до позднего вечера. Гул походил на какое-то злобное шушуканье, которое с увеличением толпы становилось день ото дня все громче, пока не переросло в неясный говор, в котором отчетливо слышалось то, что экономисты именуют предложением и спросом. Как-то раз после полудня Бремер сидел на кухне, которую он с утра подмел, протер, выскоблил ножом углы и потом еще прошелся по полу щеткой, и разгадывал кроссворд. Германское племя, пять букв: свевы? Греческая волшебница. Пять букв. Начинается на «к». Он не знал. Вдруг донимавший его гул разом смолк. Донесся шум мотора. Он подбежал к окну. По улице медленно, как черепаха, двигался джип. В машине сидели два английских полицейских и два немецких в форменных фуражках.
Большинство торговцев черным товаром как ветром сдуло, те же, что остались, стояли группами и разговаривали, демонстративно поглядывая на небо. И все, кто конечно же оказался здесь совершенно случайно, нашли о чем поговорить, ну, естественно, о погоде, и, задрав голову, таращились прямо на Бремера, так что он непроизвольно отпрянул от окна.
Вечером Бремер рассказал ей об этом джипе. Английская военная полиция вместе с немецкими полицейскими.
— Все его сомнения сразу отпали, так мне показалось тогда, — сказала фрау Брюкер. — Немецкая полиция поначалу инструктировала англичан. Ведь надо было узнать город.
Она последовала совету Хольцингера и пожарила картошку с тмином, сильно сдобрив ее черным перцем, который ей выделил Хольцингер из своих резервных запасов. Она поставила тарелку на кухонный стол и наблюдала за тем, как Бремер запихивал в себя еду. В глазах его стояли слезы, из носа потекло. Он без конца сморкался. «Ну что? Чувствуешь что-нибудь?» Он только покачал головой и расстегнул брючный пояс.
Бремер раздобрел, и довольно сильно. Оно и понятно: мало двигался, но в не меньшей степени это зависело от умелой деятельности Лены Брюкер, ибо в то время, как другие худели, он ухитрялся толстеть. После капитуляции с продовольствием легче не стало. Англичане взяли на себя обязанность по распределению талонов, точно так же они прибрали к рукам и само ведомство, отвечающее за распределение продовольствия, включая и д-ра Фрёлиха. Однако это привело к трениям между производителями, крестьянами и властями. Между представителями разных ведомств тоже доходило до битв при распределении продовольствия; участились случаи сокрытия товаров, спекуляция и воровство. И не только потому, что допущенный к кормушке не знает совести и его не страшат ни тюрьма, ни сума, ни даже гильотина, а потому, что в новом управленческом аппарате засел враг. Еще совсем недавно мы брали его за горло. Коварный Альбион с его «томми», управляемый плутократами. Тут уж нечего гнушаться средствами, надо как следует надуть врага, тогда в дураках наверняка останется не соотечественник, а противник. Она решила открыть Бремеру правду сегодня же вечером. Хольцингер рассказывал ей о своей маленькой дочке, которой не терпелось снова пойти в школу — она была еще закрыта. Лене вспомнилась фотография, запечатлевшая Бремера с женой и ребенком. Обсуждая с Хольцингером меню на завтрашний день, она прикидывала, с чего начнет разговор с Бремером. «Итак, у нас есть несколько центнеров перловки». Но Хольцингеру был нужен мясной экстракт, чтобы придать супу мало-мальский вкус. «Что с тобой? — спросил он. — Эй, фрау Брюкер!» И он провел рукой перед ее глазами, как обычно поступают с ребенком, чтобы вернуть его из мира фантазии. «Постарайся раздобыть мясной экстракт. Попроси капитана Фридлендера. Сострой ему глазки». — «Я должна кое в чем тебе признаться». — «Признаться? Но так говорят только в кино». — «Мне надо поговорить с тобой. Я должна кое-что прояснить». — «Что именно? Лука у нас пока достаточно. Вот раздобыть мяса было бы замечательно». — «Война окончилась, давно». — «Давно?» — «Да, в сущности, три недели тому назад, здесь, в Гамбурге». — «Я знаю», — сказал Хольцингер. «Сказать то, что надо сказать. Нет, лучше так: я должна признаться, что кое-что утаила от тебя». Но произнести это вслух было очень трудно, просто невозможно подыскать нужные для этого слова. Как же ей вместить в самое обыкновенное слово все то, что так переплетено, запутано, где было столько разных, порой даже противоречащих друг другу причин, в это слово «утаить», равноценное слову «солгать».
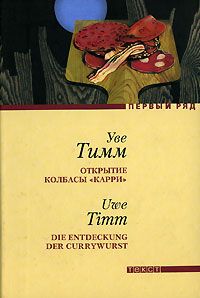
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)


