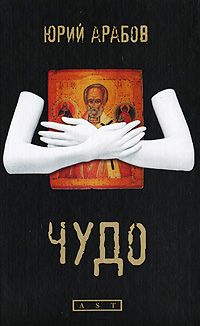– Не могу, – произнес владыка и указал глазами на занавеску у печи.
Хрущев проследил за его взглядом…
– Что еще за кошки-мышки?.. – Он взялся за край ситцевого полотна.
– Может, не надо, Никита Сергеевич? – осторожно посоветовал ему Валериан.
Так в свое время внутренний голос советовал Хоме Бруту не смотреть …
Но Первый секретарь не послушался и занавеску раздвинул…
Некоторое время все потерянно молчали. – …что это у нее в руках? – наконец выдохнул из себя Первый секретарь.
– Икона Николая Угодника, – объяснил архиерей.
– Так надо… взять у нее икону. А то неудобно как-то… – растерянно предложил Никита Сергеевич.
– Не дерзаю и не могу.
– Приказываю вам как старший по чину!..
Владыка истово перекрестился. Сделал три земных поклона на восток и подошел к окаменевшей Татьяне.
Шепча под нос молитву, взялся за оплывшую икону святителя Николая.
– Не отдает… – прошептал архиерей, отступая назад.
– Давайте я попробую!.. – предложил Хрущев.
Стараясь не глядеть в лицо Татьяны, схватился за черную доску…
– Нет, – пробормотал он, отступая на шаг. – Не получается. Может, ты, Валериан, попробуешь?..
Помощник его, и без того бледный, даже не сделал шага вперед.
– Бесполезно. Здесь нужен инок-девственник, – подал голос владыка.
– Так давайте его сюда! – закричал Никита Сергеевич.
– Нету.
– Почему?
– Потому что вы сами все монастыри закрыли, – объяснил ворчливо архиерей. – Какие у нас теперь иноки?..
– Бог знает что! – махнул рукой в досаде Первый секретарь. – На все в этом городе один ответ – нету, нету, нету!
Бормоча себе под нос, расстроенный и убитый, он пошел прочь из дома.
С крыльца увидел толпу людей у дальнего милицейского кордона.
Народ стоял серой угрюмой массой, он даже внешне не волновался, этот народ, и не выражал восторга, будто Первый секретарь ЦК КПСС являлся перед ним ежедневно, во всяком случае, раз в неделю.
Обмахиваясь шляпой, словно веером, Хрущев миновал испуганную группу бледных, как смерть, чиновников и подошел к горожанам, которых он заочно старался полюбить, хотя с души воротило.
– Здравствуйте, товарищи, – сказал им радушно Никита Сергеевич. – Нет ли среди вас инока-девственника?
– Спичек в городе нет!.. – выкрикнул кто-то из толпы. – Соли и сахара!..
– А мясо? – спросил их Хрущев.
– Какое мясо?!.. – тут толпу прорвало, и все заголосили. – Власти воруют!.. Фонари разбиты! Живем, как в Аду!
– Тихо…Тихо, товарищи! – Хрущев поднял над собою шляпу-горшок, и народное волнение кое-как стихло. – Скоро все будет. Мы переходим на семилетнее планирование нашей социалистической экономики. В конце первой семилетки все появится, обещаю вам! И Киев ничем не будет отличаться от Гречанска… А Гречанск – от Москвы!
Народ безмолвствовал, не найдясь с ответом.
Никита Сергеевич бегло осмотрел их. Люди как люди, даже слегка симпатичные, только серые лица измождены какой-то нездешней болью. …В толпе он вдруг заприметил веснушчатого мальчишку лет двенадцати в потертом пальтишке и большой, великоватой для него фуражке профессионально-технического училища.
– Тебя как звать? – спросил Хрущев.
– Сашкой.
– А из какой ты семьи? Чем отец занимается?..
– Мой отец – поп, – ответил мальчик, замявшись.
Никита Сергеевич вздрогнул. Это было похоже на наваждение.
– Кругом одни попы… – простонал он. – А где же он, твой поп?
– Сбежал. Уж с месяц, как ищем.
Хрущев властно взял мальчика за руку, вывел из толпы и зашагал к черному дому, волоча за собой Сашку, как на привязи. – …Вот, – сказал Хрущев архиерею, втаскивая Сашку в избу. – Есть инок.
Архиерей недоверчиво осмотрел мальчика с ног до головы.
– Какой это инок? Это же школьник!
– А что надо? – по-деловому спросил их Сашка.
– Святителя Николая из ее рук взять можешь? – пробормотал владыка еле слышно.
– Какого святителя?
– Иконку у нее забери, сказали тебе! – крикнул Хрущев, потеряв терпение.
И даже схватил в руки скалку, лежавшую тут же, на лавке возле печи.
– Не бейте, дяденька. Все понял! – отпрянул Сашка.
Подошел к окаменевшей Татьяне. Протянул руки к иконе.
Спокойно взял ее из неподвижных рук и передал архиерею со словами:
– Так, что ли?..
Столб в это время повел оледеневшими пальцами. Приоткрыл мутные очи и снова стал похож на человека.
Тяжело сел на лавку, потому что ноги не держали.
Архиерей упал перед Татьяной на колени.
– Пойдемте отсюда, Валериан Григорьевич… – Хрущев тихонько взял за руку своего помощника и на цыпочках вместе с ним вышел из избы.
О чем он подумал в это время, что почувствовал? Об этом мне неизвестно.
Моторы гудели, иллюминаторы еле слышно дребезжали, железное тело машины вибрировало и хотело поскорее взлететь.
Они выруливали на взлет, и тело, как могло, готовилось к прыжку в небо.
– И какой же вывод из этой истории? – спросил Первый секретарь Валериана. – Было чудо или нет?
– По-моему, нет, – осторожно сказал Валериан Григорьевич.
Он бесполезно теребил руками, стараясь пристегнуть ремень, но никак не получалось.
– И я того же мнения, – согласился Хрущев. – Думаю, что архиерей все это и устроил. Надо бы его протащить по партийной линии.
– А вы думаете, он партийный?
– Уверен. Он же воевал на Втором Белорусском… если, конечно, не врет… – здесь Первый секретарь задумался и добавил энергично то, что давно накипело на душе: – Попам – никакой оттепели, одни заморозки!
– Пристегнитесь, Никита Сергеевич, – подлетела к ним стюардесса. – Сейчас взлетаем!
Хрущев, вздохнул, щелкнул замком, откинул голову на спинку кресла, закрыв глаза.
Самолет, вздрогнув, покатился вперед, и швы на взлетно-посадочной полосе тяжело начали лупить по его колесам. Движение ускорялось. Машина взревела и тяжело оторвалась от грешной земли.
Никита Сергеевич открыл глаза. Редкие светлые облака цеплялись за крылья.
– Чудо в другом, – сказал вдруг Валериан Григорьевич. – Вы взяли в руки палку, и только после этого они все зашевелились. – …вывод?
– А вывод такой, – пробормотал грустно помощник, – что без палки они все и не почешутся.
Хрущев недоверчиво покачал головой.
– Берите в руку палку и действуйте!
– Нет. Нельзя. Не надо палки, – пробормотал Первый секретарь.
– А вы все-таки подумайте, – настоятельно посоветовал ему Валериан Григорьевич.
Хрущев задумчиво помял губами и взглянул в иллюминатор. Лучи солнца ложились на белую пелену, которая оказалась под днищем самолета. Как будто он маленьким бежал по молочной летней траве-мураве ранним утром, когда теплый туман уходит вверх, сползает с земли, как одеяло, освобождая ее для радостного дня.
– Чудо как красиво, – не выдержал Хрущев. – Как будто ангелы летают.
– Это не ангелы. Это облака, – напомнил ему Валериан Григорьевич. – А что такое облака? – наставительно добавил он: – Сгустки воды и газов.
Железо на кочках грохотало громче любого самолета. «Скорая» подпрыгивала, визжала, зависала на секунду в воздухе, а потом обрушивалась на пробитый асфальт всей тяжестью своей невеселой миссии. Сколько видела она трупов, эта «скорая»? Сколько безнадежно больных везла она в своем железном теле? В наши времена стало проще – тяжело больных теперь в лечебницы не берут, заставляя умирать дома, и в этом сказывается действие материального прогресса, неуклонного, как падающий с крыши кирпич. Еще в семидесятых поражала фраза, часто произносимая в парикмахерских: «Чего ты такой обросший пришел?» И мы понимали, что парикмахерские хотят заниматься не освобождением головы от лишних волос, а чем-то совсем другим; больницы – не лечением больных, а чем-то совсем другим… Но чем? Возможно, что парикмахерские желали лечить, а больницы – подстригать. Но во времена окаменевшей Татьяны до таких тонкостей еще не додумались и везли на «скорой помощи» бывший труп. Вернее, труп, который неожиданно и досадно для всех воскрес.
Двое мрачных санитаров раскачивались вместе с ожившей Таней в такт, будто связанные крепкой веревкой. Они походили на тюремных надсмотрщиков, тем более что окна машины были забраны решетками.
О чем можно думать в подобной машине? Обычному человеку – о вечном, потому что себе больше не принадлежишь. Но Татьяна не думала об этом, потому что в вечности уже побывала. Наоборот, ей было радостно от жизни в любых ее проявлениях. Радостно оттого, что рука ощущает холодные стены. Радостно, что за окошком видны блики весеннего зрелого солнца, готовящегося к жаркому лету. Радостно, что ноги держат, могут ходить, суставы – сжиматься, рот – растягиваться в улыбке.
Что она видела, когда стояла столбом сто двадцать с лишком дней, что помнила? Ничего. Но радости тогда не было. Появилось что-то другое. Кто-то ее кормил, она явственно помнила об этом. Но кто или что? А Бог его знает. Ела она не губами, разговаривала не языком, да кто теперь разберется, чем она ела и разговаривала? А главное, с кем? Все это было теперь не важно. Для какой-то цели ее снова возвратили к людям и в душе поместили звенящий смех. Именно так она могла бы объяснить свое сегодняшнее состояние. Звенящий смех, пьянящая радость…