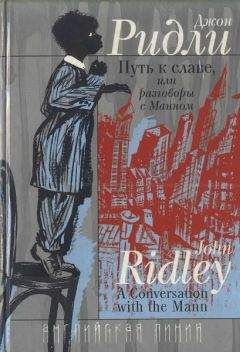Стоило мне представить, стоило мне только представить ее с ним — пускай он был звездой огромной величины, пускай в ту пору я не подозревал о ее существовании, — и я мгновенно возревновал. Тут я и понял, что если до сих пор еще не влюбился в Томми по уши, то вот-вот сделаю это.
Потом Томми принялась расспрашивать меня, и от некоторых вопросов мне пришлось увиливать. Зачем филадельфийской девчонке знать, что я рос в гарлемской грязи и нищете? К чему милой юной леди из хорошей семьи слышать о том, чем потчует себя мой отец, который ждет меня, валяясь на полу? Я не пытался лгать ей о том, кто я такой… что я такое. Я только кое-что пытался скрыть.
Томми сменила тему:
— Почему тебе хочется быть комиком?
Я пожал плечами:
— Наверно, потому же, почему тебе хочется быть певицей.
— Это не ответ.
— Я хочу, чтобы у меня была пристойная жизнь — а это единственный путь к ней, какой я знаю.
— Разве сейчас у тебя не пристойная жизнь?
— Не такая, какой мне хотелось бы.
— А какой тебе хотелось бы?
— Чтобы пожимали руку, чтобы похлопывали по спине. Чтобы все, что нужно, можно было получать тогда, когда нужно. Если станешь кем-то, то никто уже тебя не будет пихать. А если попробует, то ты его пихнешь. Пихнешь как следует.
Вдруг я заметил, что повысил голос и тон. Заметил, что громко разглагольствую, а Томми смотрит на меня широко раскрытыми глазами.
И — так же мягко, как я был резок, — Томми произнесла:
— В тебе много злости.
Я сразу смягчился:
— Во мне много злости потому, что ее в меня вбили.
— Смех сквозь… Как это любят говорить про комиков? Видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы?
— Невидимые миру слезы сквозь слышимый всюду смех.
— Значит, поэтому ты хочешь быть комиком? Чтобы над тобой не смеялись? Чтобы свести счеты?
Басист закончил свое соло, длившееся добрых десять минут, и публика принялась хлопать и щелкать пальцами — не потому, что басист очень хорошо играл, а потому, что именно это полагается делать, когда джазовый артист заканчивает десятиминутное соло.
Я спросил Томми:
— А ты почему поешь?
— Потому что у меня есть внутри что-то такое, что я хочу дать послушать другим, — какая-то часть меня, которую стоит услышать.
— В тебе есть и такие части, на которые стоит посмотреть.
— Ты меня не слушаешь. — В голосе Томми послышалась легкая досада. Острить нужно к месту, а когда девушка вроде Томми — девушка, которая живет ради песни, — рассказывает о том, что значит для нее музыка, не время для шуток.
Первое свидание. Похоже, я превращаю его в единственное и последнее.
Томми:
— Мне хочется сказать что-то своей музыкой, мне хочется говорить с людьми. Это для меня важно. Если тебе нечего сказать, когда ты там, — она махнула рукой в сторону сцены, — какой тогда вообще смысл туда выходить?
— Ну, знаешь… А я просто рассказываю анекдоты. Я не проповедую Десять Заповедей.
— Почему заповеди? Это может быть что угодно.
— Да? Ну так мне угодно, чтобы это был мой билет в лучшую жизнь. Ни больше ни меньше.
Томми, недовольная моим ответом, устремила все свое внимание на квартет: сценические импровизации вдруг сделались для нее интереснее, чем все, что я мог сказать ей.
Я проводил Томми домой — к западу от Бауэри, через Вашингтон-сквер-парк, затем по Седьмой авеню. Расстояние от «Файв-Спот» до дома Томми помогло растопить образовавшийся между нами ледок. Я земли под собой не чуял. Выпивка, джаз, дым от чужих косяков, забитых еще в клубе, и Томми — все это смешалось в коктейль, который веселил и будоражил меня — и сделал почти непригодным для каких-либо других видов кайфа.
— Джеки… Джеки! — позвал меня откуда-то издалека бестелесный голос Томми.
Я остановился. Обернулся. Голос Томми был бестелесен потому, что сама Томми стояла в десяти шагах от меня, возле какого-то подъезда. Меня настолько захватило движение собственных грез, что я даже не заметил, как она остановилась.
— Я живу здесь.
Я только кивнул в ответ, не говоря ни слова, как будто так и надо — когда парень смотрит, как девушка стоит возле подъезда.
— Ты в порядке?
Я летал, я парил. Я был влюблен.
— Да. Все отлично.
Я подошел к Томми и встал рядом.
Она стояла.
Я продолжал стоять.
Так мы оба стояли.
Двадцать лет с хвостиком. Можно было принять меня за старшеклассника.
Томми первая прервала эту пантомиму:
— А почему ты меня никуда не приглашал?
— Приглашал. Сегодня.
— Нет, раньше. Да и сегодня не приглашал. Это я тебя пригласила.
После секундного колебания:
— Я хотел. Раз десять почти было решался. Просто боялся, что вокруг тебя все эти парни вьются.
— Какие — эти парни?
— Ну… Ты же такая известная певица…
— Известная? — Томми засмеялась так, как не смеялась, наверное, на моем выступлении. — Кафешки, парочка клубов. И это успех?
— Ну, когда смотришь со стороны…
Томми прекратила смеяться. И строго на меня поглядела:
— Это что — единственная причина? Ты хотел ко мне подойти только потому, что я была для тебя чем-то вроде знаменитости?
— Я хотел к тебе подойти потому, что, еще до того, как я встретил тебя, еще до того, как узнал о твоем существовании, я всю свою жизнь уже любил тебя.
Это была поэзия на шатких ногах. Это была чушь, которую обычно не болтают девушке — особенно при первом свидании. Может, остаточный кайф, под которым я находился, заставил меня все это сказать. Может быть. А может, это была чистая правда, которая шла от самого сердца. Наверное, так оно и было, потому что Томми, как рентгеном, просветила меня насквозь своим взглядом, попытавшись выявить хоть малейший признак фальши, ломанья или насмешки, — и случись мне пусть на йоту отступить на словах от того, что было у меня на душе, то поскакала бы моя черная задница обратно к себе в Гарлем.
Закончив меня изучать, пристально в меня вглядываться и взвешивать мою судьбу:
— Не зайдешь ко мне на чашечку кофе?
— Мы уже пили кофе.
— Но заходят же не для того, чтобы пить кофе. — Улыбка. Улыбка куда более взрослая, чем ее годы.
Так вот, а теперь знайте — и не подумайте плохого об этой девушке: в ту ночь ничего между мной и Томми не произошло. Ничего — если не считать того, что это был самый чудесный вечер в моей жизни.
* * *
Сид был человеком не без способностей. И главная из них — во всяком случае, в моих глазах — состояла в его умении творить маленькие чудеса. Мне он сумел раздобыть работу в приличные часы. Фрэн он подкинул договор о записи. Договор этот означал, что какая-то фирма выпустит и будет распространять ее сингл при условии, что сумма расходов не превысит пятисот долларов. Пятьсот — и на студийное время, и для музыкантов, а остаток — на выпуск и распространение. Такой ангажемент не сулил никаких денег. В лучшем случае, если все пойдет хорошо, Фрэн услышат за пределами клубов. И все равно одна мысль об этом уже будоражила: первый договор Фрэн, первая запись. Первый настоящий успех для одного из нас. Конечно, мы почувствовали, что это — только начало всего хорошего.
Пятисот долларов не хватало на то, чтобы нанять продюсера. Поэтому на записи, чтоб следить за ходом дела, будет присутствовать Сид. Я тоже буду рядом — просто чтобы быть рядом, чтобы разделить радость Фрэн.
Крошечная студия, на которую хватало такого бюджета, не поражала роскошью — мягко говоря. Скорее, наоборот. Ничего общего с Брилл-Билдинг[19]. Конура в Вест-Сайде, недалеко от старого квартала Тин-Пэн. Обшарпанные стены, ковер с узором из кофейных пятен. Бычки. Повсюду, по всему полу, валялись бычки от сигарет, докуренных до самого фильтра. Кто, черт возьми, столько накурил? — удивился я.
Как в музыкальном зверинце, пространство там состояло из целой вереницы кабинок звукозаписи, и, проходя мимо, можно было увидеть за каждым стеклянным окошком по исполнителю. В этом зоопарке было много всякой живности. Исполнители с молочно-белыми лицами — их нетерпеливость пробивалась даже сквозь звуконепроницаемое стекло; исполнители бывалые — спокойные и уравновешенные: очередная запись очередной пластинки. Обычная работа — а что тут особенного, когда выполняешь обычную работу. Исполнители нервные. Нервные не потому, что они новички на музыкальной сцене. Как раз наоборот. Нервничали они потому, что топтались на ней слишком долго, но за много лет так и не добились успеха. Они хватались за последний шанс — неудача преграждала путь вперед, поражение напирало сзади. Глядя правде в глаза, они потели и бледнели, расхаживали взад-вперед по своим тесным кабинкам, как крысы, отчаявшиеся найти лазейку и выбраться из ловушки. Но сколь ни удручающ был дух уныния, витавший тут повсюду и чуть ли не кричавший о себе, Фрэнсис его в упор не замечала. Она все еще была полна боевого задора.