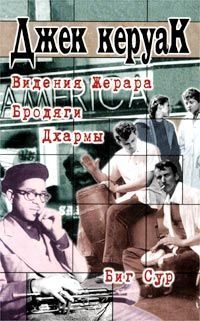Стемнело. Я взял котелок и пошел за водой, но пришлось продираться через такой густой кустарник, что когда я вернулся к себе в лагерь, большая часть воды расплескалась. Я вылил ее в свой новый пластмассовый шейкер вместе с апельсиновым концентратом и взболтал себе ледяного сока, потом намазал ореховый творог на пшеничный хлеб и, довольный, поел. Сегодня ночью, — думал я, — сплю крепко и долго, и буду молиться под звездами Господу, чтобы сделал меня Буддой, когда труды мои завершатся, аминь. И добавил, как будто уже наступило Рождество: Господи благослови вас всех, и веселого, нежного Рождества на все ваши крыши, я надеюсь, ангелы присядут на них той ночью, когда взойдет большая, богатая, настоящая Звезда, аминь. А потом, позже, когда я уже лежал, подложив мешок под голову, и курил, то подумал: все возможно. Я — Бог, я — Будда, я — несовершенный Рэй Смит, всё одновременно, я — пустое пространство, я — все вещи сразу. Все время на свете — мое, от жизни до жизни, чтобы сделать то, что надо сделать, то, что сделано, безвременное, бесконечно совершенное внутри: к чему плакать, к чему волноваться? — совершенное, как сущность разума, как разум банановых очистков, — добавил я, смеясь и вспомнив моих поэтичных друзей, Безумцев Дзэна, Бродяг Дхармы из Сан-Франциско, по которым я уже начал скучать. И еще я прибавил маленькую молитву за Рози:
— Если бы она была жива и смогла бы со мною сюда приехать, может, я бы и смог ей что-нибудь сказать, может, она бы почувствовала себя по-друтому. Может, я бы просто любил ее здесь и ничего бы не говорил.
Сидя по-турецки, я долго медитировал, но меня доставало рычание грузовиков. Вскоре высыпали звезды, и мой индейский костерок послал им струйку дыма. В одиннадцать я скользнул в свой спальник и хорошо заснул — вот только ворочался всю ночь из-за бамбуковых щепок. Лучше спать на неудобной постели свободным, чем на удобной — несвободным. По дороге я сочинял множество подобных пословиц. Со своим новым снаряжением я начал новую жизнь: настоящий Дон Кихот нежности. Наутро я ощущал приподнятость и первым делом помедитировал и сочинил маленькую молитву: «Благословляю вас, все живые существа, благословляю вас в бесконечном прошлом, благословляю вас в бесконечном настоящем, благословляю вас в бесконечном будущем, аминь».
От этой молитвы мне стало хорошо и придурочно, я упаковался и снялся в сторону водопада, сбегавшего со скалы на другой стороне шоссе — восхитительная родниковая вода, чтобы ополоснуть лицо, почистить зубы и попить. После этого я был готов к трехтысячемильному автостопу в Роки-Маунт, Северная Каролина, где меня ждала мать, возможно, моя посуду в своей милой жалкой кухоньке.
Популярной песней в то время была «У всех есть дом, кроме меня» — ее пел Рой Гамильтон. Шагая, я напевал ее. На другой стороне Риверсайда я вышел на трассу, и меня тотчас же подобрала молодая пара — до аэродрома в пяти милях от города, а там — тихий человечек, чуть ли не по самого Бомонта, Калифорния; он высадил меня, не доезжая пяти миль, посреди двухрядного скоростного шоссе, где никто бы все равно не остановился, поэтому я пошел дальше пешком в прекрасном искристом воздухе. В Бомонте я поел «горячих собак», гамбургеров, съел пакетик жареной картошки и запил клубничным коктейлем — и все это в толпе хихикавших школьников. Потом, на другой стороне городка, меня посадил к себе мексиканец по имени Хайми, сказавший, что он — сын губернатора мексиканского штата Баха-Калифорния; я ему не поверил, он оказался алкашом, и мне пришлось купить ему вина, которое он лишь выблевал в окно, пока ехали: понурый, грустный, беспомощный молодой человек, очень печальные глаза, очень милый, немножко съехавший. Он направлялся аж в Мехикали — немного в сторону от моего маршрута, но ничего, довольно близко к Аризоне, сойдет.
В Калехико на главной улице шли рождественские распродажи, и там было столько невероятно совершенных, изумленных красавиц-мексиканок, что чем дальше, тем лучше они становились — так, что когда первые удалялись и истончались у меня в памяти, вторые их затмевали, — а я стоял, вертя головой во все стороны, и ел мороженое, дожидаясь Хайми, который сказал, что ему тут надо выполнить одно поручение, и он подберет меня снова и лично доставит в Мехикали, Мексика, где познакомит со своими друзьями. План мой был таков: задешево хорошо поужинать в Мексике и тем же вечером покатить дальше. Хайми, конечно, так больше и не появился. Я сам перешел границу и сразу за шлагбаумом резко повернул вправо, чтобы не попасть на местную барахолку, и там немедленно решил отлить среди строительного мусора, но сумасшедший сторож-мексиканец в какой-то официальной форме решил, что это — грубое нарушение, и что-то мне сказал, а когда я ответил, что я не знал («No se»), он сказал:
— No sabes police?[27] — Хватит же наглости вызвать легавых за то, что я пописал на его землю. Но потом я заметил и опечалился: я оросил как раз то место, где он по ночам зажигал свой костерок, там лежала кучка углей, — и я пошел по грязной улице прочь, испытывая покорность и настоящее раскаянье, со своим огромным рюкзаком за спиной, а он страдальчески все смотрел мне вслед.
Я вышел на холм и увидел огромные илистые пересохшие русла с вонючими болотцами и озерками, с жуткими тропинками, протоптанными женщинами и осликами, плетущимися в сумерках; нищий китайский старик-мексиканец поймал мой взгляд, и мы остановились поболтать, и когда я сказал ему, что, может быть, останусь dormiendo, спать в этой вот низине (на самом же деле я собирался осуществить это немного дальше, среди холмов), он взглянул на меня с ужасом и, поскольку был глухонемым, жестами показал, что меня там ограбят, отнимут рюкзак и убьют, если я так сделаю, и я вдруг понял, что это правда. Я уже не в Америке. По какую бы сторону границы ты ни был, как бы ни резал колбасу, а бездомный — везде бездомный. Где отыскать мне тихую рощицу, чтобы в ней медитировать, чтобы жить в ней вечно? После того, как старик на пальцах попытался рассказать мне историю своей жизни, я ушел от него, маша ему на прощанье рукой и улыбаясь, пересек низину и желтую от ила речку по узкому дощатому мостику и углубился в глинобитные бедные кварталы Мехикали, где мексиканская веселость, как обычно, очаровала меня, съел там полную оловянную миску вкуснейшего супа (garbanzo) c кусочками головы (cabeza) и сырым луком (cebolla), разменяв предварительно на границе четвертак на три бумажных песо и целую кучу громадных пенни. Ужиная в глиняной уличной забегаловке, я врубался в улицу, в людей, в несчастных собак, в кантины, в шлюх, в музыку, в мужчин, которые, дурачась, боролись посреди узкой дороги, а напротив был незабываемый салон красоты (Salon de Belleza) с голым зеркалом на голой стене, с голыми стульями и одной-едииственной семнадцатилетней красавицей, которая, заколов волосы булавками, грезила у этого зеркала, а рядом стоял старый гипсовый бюст с пудреным париком, за ним ковырялся в зубах здоровенный мужик с усами и в скандинавском лыжном свитере, а у следующего зеркала маленький мальчик жевал банан, и снаружи, на тротуаре, собралась детвора и смотрела в витрину как в кино, и я подумал: о, в этом — всё Мехикали каким-нибудь воскресным днем! Благодарю тебя, Господи, за то, что вернул мне вкус к жизни, за Твои вечно возобновляющиеся формы в Утробе Твоего Щедрого Плодородия. Все слезы мои были не напрасны. В конце все обязательно получится.
Затем, прогуливаясь, я купил себе горячий пончик, потом у девочки — пару апельсинов, снова перешел по мосту в вечерней пыли и, счастливый, направился к пограничному шлагбауму. Но там меня остановили трое неприятных американских охранников и угрюмо стали рыться у меня в рюкзаке.
— Что вы купили в Мексике?
— Ничего.
Они мне не поверили. Они шарили внутри. Прощупав пакетики с остатками бомонтской жареной картошки, изюмом, орешками и морковкой, банки со свининой и бобами, которыми я запасся на дорогу, половину буханки пшеничного хлеба, они преисполнились отвращения и отпустили меня. На самом деле, это было смешно: они ожидали увидеть рюкзак, набитый опиумом из Синалоа, травой из Мацатлана или героином из Панамы. Может, они думали, что я пришел из Панамы пешком. Они никак не могли меня вычислить.
Я пошел на автостанцию «грейхаундов» и купил билет — недалеко, до Эль-Сентро, где пролетала основная трасса. Я прикидывал, что поймаю аризонский «ночной призрак» и буду в Юме этой же ночью, посплю в долине Колорадо, которую отметил для себя уже давно. Но в Эль-Сентро все обломилось: я пошел на товарный двор, немного повил там петли и, наконец, заговорил с кондуктором, подававшим сигнал маневровому:
— А где «зиппер»?
— Он через Эль-Сентро не идет. — Я подивился собственной глупости. — Единственный товарняк, который ты можешь поймать, ходит через Мексику, потом Юма, но тебя там найдут и ссадят, и ты, парень, очутишься в мексиканской каталажке.