— Давай, белокопытка, поспешай. Возя меня, ты вносишь больший вклад, нежели следуя за Лань Лянем. Рано или поздно он вступит в народную коммуну, а после этого ты станешь коллективным достоянием. Разве не справедливо, когда руководитель уезда ездит по делам на осле народной коммуны?
Как говорится, за чрезмерной радостью следует печаль, и все, достигающее предела, неизбежно обращается вспять. Вечером через пять дней после моей встречи с хозяином мы возвращались с уездным домой после поездки на рудник на Вонюшань — Горе Возлежащего Буйвола. На горной дороге передо мной неожиданно выбежал дикий кролик. От испуга я отскочил, неловко угодил правым передним копытом в щель между камнями и завалился на бок. Упал и уездный, ударившись головой о каменный выступ. Обливаясь кровью, он потерял сознание. Секретарь кликнул людей и велел нести его вниз. Несколько крестьян пытались вызволить меня, но копыто провалилось очень глубоко, и его было не вытащить. Они принялись с силой толкать меня, тянуть. В каменном капкане хрустнуло, от страшной боли я тоже лишился чувств, а придя в себя, увидел, что правое копыто вместе с венчиком осталось меж камней, а кровь из ноги уже залила большую часть дороги. Охваченный горем, я понял, что больше ни на что не годен. Не только уездный, даже мой хозяин не станет кормить осла, который не может работать. И ждёт меня в будущем длинный нож мясника. Перережут горло, а когда вытечет кровь, сдерут шкуру, раскромсают, приготовят вкусные блюда, и прямой путь людям в желудки… Лучше уж покончить с жизнью самому, чем ждать, когда тебя зарежут. Я покосился на обрывистый горный склон за краем дороги, на укутанную дымкой деревню, взревел и, собравшись с силами, стал перекатываться в ту сторону. Но меня остановил надрывный крик Лань Ляня.
Хозяин бежал в гору. Весь мокрый от пота, колени в крови: видать, спотыкался и падал. Увидев моё печальное состояние, он громко разрыдался:
— Эх, Черныш мой, Черныш…
Он обнял меня за шею, а подошедшие помочь крестьяне подняли мне хвост, подвинули задние ноги, и я с трудом поднялся. Но стоило коснуться культёй земли, как пронзила невыносимая боль. По телу побежали ручейки пота, и я снова рухнул на землю, как ветхая стена.
— Всё, инвалид, никуда не годен, — как бы с сочувствием рассудил один из крестьян. — Но переживать не стоит, осёл в теле, продашь мясникам — немалые деньги выручишь.
— Что ты мелешь, мать твою! — разозлился Лань Лянь. — А если бы отец твой ногу поранил, ты бы его тоже к мясникам потащил?
На миг все вокруг замерли, а тот же крестьянин взъярился:
— Ты что, тудыть тебя, говоришь? Осёл этот тебе отец родной, что ли? — И засучив рукава, пошёл на Лань Ляня.
Но один из приятелей потянул его в сторону:
— Будет, будет, не стоит с этим сумасшедшим связываться. Чуть ли не единственный единоличник на весь уезд, его и уездный начальник знает и вся его канцелярия.
Все разошлись, остались лишь мы с хозяином. На небе повис изогнутый серп луны, всё вокруг было исполнено печали. Изругав уездного и крестьян, хозяин скинул рубаху, располосовал её и обмотал мне раненую ногу. Иа, иа, как больно, умереть можно… Хозяин обнял мне голову, на ухо одна за другой скатывались слезинки.
— Эх, Черныш, Черныш старина… Ну что сказать тебе доброго? Как ты мог поверить всем этим чиновникам? Пришла беда, у них одна забота — своего спасать, а тебя взяли и бросили… Послали бы за каменотёсом, чтобы продолбил эти камни, расширил щель, тогда и ногу можно было бы выручить…
Тут его будто осенило. Он отпустил мою голову, подбежал к расщелине, засунул туда руку и стал пытаться вытащить моё копыто. Со всхлипываниями и руганью, пыхтя и тяжело дыша, он всё же достал его и, держа в руках, взвыл в голос. При виде блестящей, отшлифованной горными дорогами подковы слёзы хлынули и у меня.
Подбадриваемый хозяином, я с его помощью всё же встал. Культя была обмотана таким толстым слоем ткани, что я мог чуть касаться земли, но, как ни печально, всё время терял равновесие. Всё, нету больше Осла Симэня с его стремительной поступью, остался инвалид, который на каждом шагу роняет голову и клонится в сторону. Не раз так и подмывало скатиться кубарем с горы и положить конец этой печальной участи. Только любовь хозяина и удержала.
От рудника на горе Вонюшань до деревни Симэнь — сто двадцать ли пути. Будь ноги здоровые, и говорить не о чем. Но без ноги я шагал с невероятным трудом, оставляя на дороге следы крови и беспрестанно вскрикивая. От боли шкура конвульсивно подрагивала, как вода под лёгким ветерком.
К тому времени, когда мы доковыляли до Гаоми, культя стала пованивать; вокруг, оглушительно жужжа, вились тучи мух. Хозяин отгонял их пучком наломанных веток. Обмахиваться хвостом не хватало сил, да ещё пробрал понос, и весь круп был обделан до невозможности. С каждым взмахом хозяин убивал мух десятками, но тут же налетало ещё больше. Хозяин скинул штаны и разодрал, чтобы наложить новую повязку, а сам остался в коротких трусах, едва прикрывавших срам. В больших тяжёлых тапках на толстой подошве с верхом, обшитым толстой потрескавшейся кожей, он выглядел причудливо и потешно.
Нелёгким был наш путь, как говорится, ветер — пища, а роса — приют. Я пощипывал сухую траву, а хозяин утолил голод, накопав в поле у дороги полугнилых бататов. Шли мы окольными путями и старались скрыться, завидев людей, словно раненые солдаты, покидающие поле боя. Когда пришли в деревню Хуанпу, из распахнутых дверей столовой пахло чем-то вкусным. У хозяина заурчало в животе. Он глянул на меня покрасневшими от слёз глазами и, вытирая их грязными руками, вдруг громко воскликнул:
— Мать его, Черныш, старина, чего мы боимся? Что мы такого сделали, чтобы стыдно было людям в глаза смотреть? Мы люди честные и открытые и бояться нам нечего. У тебя производственная травма, и коммуна обязана позаботиться о тебе. А я, ухаживая за тобой, на них работаю! Пошли!
Он потащил меня за собой, этакий предводитель мушиного войска. В столовой кормили под открытым небом, подавали пельмени с бараниной. Из кухни подносили решётку за решёткой, ставили на столы, и их вмиг разбирали. Одни натыкали пельмени на тонкие прутики и кусали, наклонив голову, другие перебрасывали из руки в руку, шумно сглатывая слюну.
Мы сразу привлекли всеобщее внимание незавидным видом, гадкие и грязные. От нас воняло, голодные и уставшие, мы вызывали страх и, наверное, отвращение, отбивая аппетит. Хозяин хлопнул по мне ветками, вспугнув полчище мух. Те взлетели, покружились и расселись на пельмени и на кухонную посуду. Народ брезгливо загудел.
К нам вразвалочку поспешила дородная женщина в белой рабочей одежде, судя по всему, заведующая. Она остановилась в нескольких шагах, зажала нос и тоненьким голоском воскликнула:
— Вы что тут делаете? А ну быстро вон отсюда!
Кто-то признал хозяина:
— Никак Лань Лянь из Симэньтунь? Ты, что ли? В таком виде…
Хозяин взглянул на него, но ничего не ответил, а отвёл меня на середину двора. Все, кто там был, отошли в сторону.
— Единственный единоличник во всём уезде, его даже в особом районе Чанвэй знают! — не унимался узнавший хозяина. — Осёл у него волшебный, летать может, пару лютых волков извёл, людей кусал десятками. Но вот с ногой у него что-то приключилось, надо же, жалость какая…
— Быстро проваливайте отсюда, единоличников не обслуживаем! — завопила толстуха.
Хозяин остановился и яростно рявкнул:
— Да, свинья жирная, я единоличник, и лучше помру с голоду, чем позволю, чтобы ты меня обслуживала! Но вот на этом моем осле ездил начальник уезда. Они спускались по горной тропинке, и осёл в расщелину меж камней угодил и ногу сломал. Это что, не производственная травма? Поэтому ваш долг — обслужить его.
Никогда прежде я не слышал, чтобы хозяин так яростно ругался. Синева на лице потемнела, тощий — кожа да кости, общипанный петух да и только, — зловонный, он подступал к толстухе всё ближе. Та отступала шаг за шагом, потом закрыла лицо руками, ударилась в слёзы и убежала.
Ковыряясь в зубах, подошёл похожий на ганьбу человек в старом френче, с разделёнными на пробор волосами и смерил нас с хозяином взглядом:
— Тебе чего надо?
— Мне надо, чтобы вы накормили досыта моего осла, чтобы подогрели котёл горячей воды и помыли его, позвали врача и перевязали ему рану.
Ганьбу крикнул в сторону кухни, и на его зов выскочили человек десять.
— Быстро сделать, как он велит.
И вот меня вымыли горячей водой. Позвали врача, он обработал рану йодной настойкой, наложил мазь и перевязал толстым слоем марли. Наконец мне принесли ячменя и люцерны.
Пока я ел, из кухни принесли чашку дымящихся пельменей и поставили перед хозяином.
— Поешь, браток, не упрямься, — сказал один, по виду повар. — Поешь на этот раз и не думай, что у тебя будет на столе в следующий. Прожил сегодняшний день, и нечего думать о завтрашнем. Нынче время поганое, можно и пары дней не прожить, как уже и крышка. Как говорится, гаси фонарь, задувай свечу. Ну что, правда не будешь?

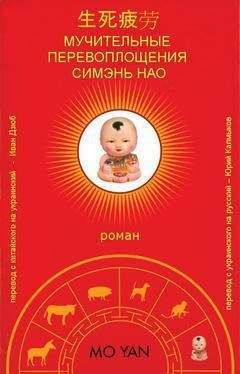



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)