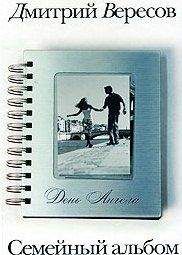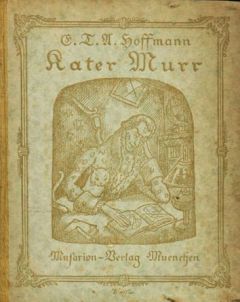Вокруг мужичонки с плакатом возбужденно топталось еще несколько человек обоего пола, одетых в свежепомятое и пестроватое, благоухающих из подмышек дешевой противопотной дрянью, обремененных яркими мокрыми зонтами, осыпающимися аэропортовскими хризантемами в разрисованном под кружева целлофане и поздними провинциального вида георгинами и гладиолусами, увязанными в снопы вместе с мохнатым аспарагусом.
— Генчик, так ты уже помнишь Оксаночку или как?! — на все Пулково вопрошала крашенная под баклажан пожилая тучная фемина и, потрясая звонким золотом в ушах и на оплывших, в старческих пятнах, запястьях, пихала худого унылого Генчика изогнутой ручкой зонта под ребра.
— Уже не помню, Фридочка, — кротко как овечка блеял Генчик, отодвигался от неприятного зонтика Фриды Наумовны и закрывался вверенным ему трехпудовым букетом гладиолусов. — Откуда мне помнить Оксаночку, если я совсем не знаю, кто такая Оксаночка?
— Генчик!!! Ты не знаешь Оксаночку?! Мою дочу?! Вице-мэра Хайфы?! Таки на кой, спрашивается, хрен ты перся в Ленинград с самого Днепропетровска?! — изумлялась Фрида Наумовна.
— Так это Ленинград? Ты ведь мне ничего не объяснила, Фридочка! Откуда я знаю, что тебе понадобилось в Ленинграде? Или в Москве? Или на кладбище в Днепропетровске, где похоронен твой муж? Я толком не понял. Ты меня по-соседски вызвонила в пять часов утра и попросила помочь тебе с гладиолусами, раз их так много. Может быть, тебе срочно понадобилось их на могилу мужа снести? Может быть, тебе понадобилось перед смертью в Мавзолей Ленина с гладиолусами сходить? Не мне знать, что придет тебе в голову в пять часов утра. Ты меня лишь убедительно просила, дорогая Фридочка, донести тебе до аэроплана эти цветы. Меня и милиционеров. Милиционеры, наверное, не захотели нести цветы и замахали двумя руками, чтобы я сам нес. Я и понес. И присел отдохнуть в мягкое кресло. А потом велели не курить и пристегнуть ремни — я и послушался как дурак. И вот я здесь! С гладиолусами.
— Генчик!!! Таки ты без билета от самого Днепропетровска летел?!! — сообщила всему аэропорту Фрида Наумовна. — А как же тогда, скажи мне, Генчик, тебя девушки на трапе пропустили?
— А я знаю, Фридочка? Не думаю, чтобы у них была какая-то возможность обнаружить меня за таким большим букетом, — предположил Генчик. — А в Ленинграде мне делать нечего, Фрида. Я не лягушка под дождиком квакать. У меня ишиас, неврит седалищного нерва и хронический бронхит, чтоб ты знала. Мне сырость вредна. И сумасшедших денег на билет у меня нету и нету. И мне, Фридочка, как ты хочешь, придется лететь назад тем же манером.
— Каким это таким манером?! Каким это манером, Генчик?! — с подозрением поинтересовалась Фрида Наумовна. — Гладиолусы мне нужны для Оксаночки, я их для Оксаночки в палисаднике растила, а не для того, чтобы ты зайцем на самолете катался с Днепропетровска в Ленинград и обратно в Днепропетровск.
— И что же мне делать, Фрида? — грустно спросил Генчик, прижимая к себе монструозный букет и бочком-бочком отодвигаясь, вероятно, в надежде затеряться в толпе и улететь-таки на родину «тем же манером». Но не тут-то было! Фрида Наумовна отловила Генчика крючком зонта и заголосила басом:
— Это гладиолусы для Оксаночки, аферист!!! Для Оксаночки!!! И у Оксаночки хватит денег, чтобы отправить тебя обратно в Днепропетровск, чтобы не любоваться в Ленинграде за твою продувную физиономию! Или на Колыму! Или в Биробиджан на поселение!
— А, я извиняюсь, Фридочка, на Брайтон-Бич? К моей племяннице Розочке? — робко закинул удочку Генчик.
— В Биробиджан! — не поддалась Фрида Наумовна. — А не хочешь в Биробиджан, таки стой спокойно рядом и держи цветы, даже если ты очень хочешь писать! Потом пописаешь! Когда отдадим Оксаночке букет.
Фрида Наумовна замолчала наконец, огляделась и, что-то сообразив или повинуясь зову материнского сердца, кинулась туда, где на самом-то деле положено находиться встречающим, если они не хотят разминуться с вновь прибывшими. Следом, заволновавшись и взбурлив, понеслась в полном составе делегация с плакатом, сокрушая все на своем пути, и в ее недрах грянула «Семь-сорок» гармоника, которую Никита и не заметил, пока не оказался вплотную прижатым к гармонисту. А прижатым он оказался, потому что, увлекшись представлением, стоял на пути делегации и, чтобы не быть затоптанным, поплыл, так сказать, в русле.
Его вынесло на пятачок, где толпились встречающие, и он получил возможность разглядеть, кого встречают с такой помпой. Народу явилась пышная статная блондинка, ухоженная и свежайшая как сортовая оранжерейная роза и такая же надменная, с росой на лбу и на высоко задранном и совсем не по-хайфовски курносом носике. Именно к ней-то и кинулась Фрида Наумовна и Генчика с плантацией гладиолусов за собой на зонтике потащила.
— Оксаночка! Доча! — заголосила она, отпихнув не глядя кого-то галстучно-официального от мэрии. — Хай живе незалежна Хайфа под Полубоевыми! Дай я тебя поцелую, сердце мое! Здесь все наши тебя с Днепропетровска встречать прилетели: и Сонечка, и Миля, и Оскарчик, и Моня, и Мусик… А это гладиолусы тебе из палисадника! А под гладиолусами Геннадий Ефимович! Он тебя на руках носил, хоть и не помнит! Аферист его фамилия!
— Арфистов, Фридочка, Арфистов, а не Аферист, — робко поправил Генчик, но на его уточнение не обратили внимания.
— Так вот, Оксаночка, его надо немедленно отправить обратно в Днепропетровск, потому что здесь кормить дороже выйдет… Ты ему денег на билет дай, и пусть его летит куда хочет…
— Мама! Здравствуй! — склонилась прекрасная Оксана к Фриде Наумовне. — Столько шуму!
— Оксаночка!.. А где же Яша и Вадик? — завертела фиолетовым налаченным коком Фрида Наумовна. — И что это за рыжая нахалка, с которой целуется твой Вадик?! Ок-са-на!!! Ок-са-на!!!
Оксана Иосифовна лениво обернулась, высматривая, как рассудил Никита, своего мужа. Но муж, этот самый «Вадик», худощавый темноволосый, с благородной докторской проседью джентльмен в дорогих очках, облаченный в благородно мешковатые дорожные одежды, вовсе не целовался, а всего лишь придерживал за локоть изящную рыжую-прерыжую, как летняя лиса, моложавую даму и вел с ней оживленный разговор, перед тем приняв от нее с интеллигентным поклоном темный мелкоколокольчатый цветок на длинном стебле.
Рыжую даму, которая до момента встречи одиноко стояла в сторонке, Никита заметил, отметил и успел оценить уже некоторое время назад. Даме чрезвычайно к лицу была ее явно искусственная рыжина и этот самый странноватый цветок, который она поддерживала длинными музыкальными пальцами, а потом в знак приветствия вручила «Вадику». Кроме того, дама кого-то очень напоминала тонкими чертами лица, кого-то весьма близкого. Весьма близкого до недавних пор.
— Ок-са-на!!! — перепуганным попугаем надрывалась Фрида Наумовна. — Доча!!! Ок-са-на!!! Она кто?!
— Полагаю, Вадькина родственница, — с равнодушием небожительницы ответила Оксана, — или подруга юности. Институтская. У них же встреча, юбилей выпуска, воспоминания и все такое.
— Ок-са-на!!! Знаю я этих… институток!!! И почему тогда других нет, а только эта рыжая фря?! Ок-са-на!!!
— Мама! — поморщилась Оксана. — Какая чепуха! Столько шуму! Лучше поцелуй своего внука, пока он не удрал с девицей.
— Удрал?! С девицей?! — заозиралась низенькая Фрида Наумовна, которой не разглядеть было внука за плотной толпой встречающих. — Ок-са-на!!! Ок-са-на!!! И куда ты смотришь? Разве можно отпускать мальчика с девицами? Ок-са-на!!! У мальчика есть мать! А девицы его испортят, у девиц только одно на уме… Вот увидишь — я знаю, я сама гинеколог, — он тебе в подоле принесет при таком-то воспитании. И что ты тогда будешь с этим делать?! Ок-са-на!!! — не на шутку переживала Фрида Наумовна. Она пыхтя приподнялась на цыпочках и издала трубный зов: — Яшенька! Где ты, мое солнышко?! Где ты, моя курочка? Пусть твои девицы станут в очередь! Бабушка первая с тобой целоваться!
Заслышав страстный призыв Фриды Наумовны, стройный юноша со скрипкой, беловолосый и розоволицый, как чистые душою славянские отроки с картин Нестерова, юноша, который скромно обретался где-то на задах сцены, почтительно прислушиваясь к разговору отца своего Вадима Михайловича Лунина с симпатичной рыжей лисой, вздрогнул и попятился и даже слегка присел с целью спрятаться и избежать публичных объятий с экспансивной бабкой. Задушит еще насмерть, а у него Таня. Вот только где она, Таня? Опоздала? Или перепугалась и прячется где-нибудь за колонной? Немудрено. Его мать встречают как Валентину Терешкову после приземления, не менее того. Испугаешься тут.
Вот именно в этот момент Никита, которого порядком помяло и укачало в штормящей толпе, чуть не пропустил второй вызов Пиццы-Фейса, несмотря на то что вибросигнал добросовестно щекотал пах, поскольку телефон Никита засунул глубоко в карман джинсов, а ария Марии Магдалины из старомодной зонг-оперы «Иисус Христос суперзвезда», на которую был настроен вызов, ласковой волной растекалась по животу. Никита замешкался, второпях зацепившись за какой-то шов в кармане, но в последний момент успел нажать зеленую кнопочку приема, чтобы услышать в трубке ехидное мурлыканье Пиццы-Фейса: