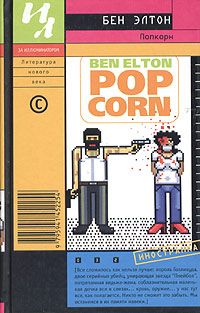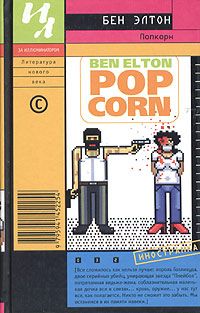— Надеются на сделку! — не выдержал Вольфганг, переламывая хлеб, будто нацистскую шею. — Сделка! С Гитлером!
— Пожалуйста, Вольф, давай не будем за едой.
Пауль просматривал вечернюю газету, сообщавшую о формировании нового кабинета министров.
— У нацистов всего лишь пара мест, — сказал он. — Тут пишут, что без согласия другой партии ему ничего не сделать. Может, герр фон Папен[42] сумеет…
— Пропади они все пропадом! — перебил Вольфганг. — Фон Гинденбург, фон Папен, фон, мать его, Шлейхер…[43] Думают, аристократическая приставка позволит управлять Гитлером. Будто они генералы и фельдмаршалы, а он — все тот же капрал… Ой, спасибочки, что пустили в канцлеры! Я послушный нацистик и сделаю, что прикажут! Не слышали его выступлений, что ли? Не видели его карманную армию? Хер им он будет слушаться!
— Вольф! Прекрати!
Потом из окна квартиры семейство наблюдало за факельным шествием, оранжевыми всполохами расцветившим вечернее небо. Ликующая колонна шла по городу.
К Бранденбургским воротам.
На сцену вновь вышла свастика, в 1920-м дебютировавшая на касках фрайкора. Теперь не белая, но черно-малиновая, она красовалась на тысячах стягов. А толпы зевак уже не молчали угрюмо, но заходились в истерической радости.
Напустив на себя будничное спокойствие, Фрида прибирала со стола.
— Не забудьте сделать уроки, — сказала она мальчикам. — А грязь с бутсов отскребите в цветочный ящик.
Вольфганг сидел у окна. Поглядывая на небо и шепотом матерясь, на укулеле он подбирал американскую новинку «Вновь вернулись счастливые дни».[44] Перестань, попросила Фрида.
Иронию она уловила. Но ей было страшно. С полудня, когда объявили о приходе этого человека и он едва ли не впервые улыбнулся с газетных страниц, евреям не стоило привлекать к себе внимание. Укулеле звучный инструмент. А в доме тонкие стены.
Стоун проснулся. Тот же сон.
Маленький пляж на берегу Ванзее. Как всегда, рядом брат. И Дагмар. Все, как в тот день.
Только во сне Дагмар выбрала его. Это он касался губами ее искропленных дождинками плеч.
И душа его воспарила над сонно разметавшимся телом.
Как обычно, пробуждение от чудесного сна одарило унынием. А сегодня и еще кое-чем.
Во сне мозг продолжал работать, пытаясь уразуметь, что давеча произошло в пустой кенсингтонской комнате. Теперь Стоун окончательно проснулся, и с глаз его будто спала пелена — впервые с той минуты, когда пришло берлинское письмо.
История, которой его потчевали, — липа.
Концы с концами не сходятся.
По сути, агенты МИ-6 сообщили два факта. Первый: Дагмар жива. Второй: извилистый жизненный путь привел ее в Штази.
Сейчас было ясно: ему так хотелось поверить в первое, что он за здорово живешь принял второе.
Стоун вылез из постели и пошел ставить чайник. Линолеум холодил ступни. Занимался зябкий рассвет.
В темной кухне Стоун чиркнул спичкой, и конфорка ожила трепещущим голубым пламенем, отбросившим слабые тени на стены. Нашарив пиджак, Стоун достал сигареты. Свет не включил — темнота вроде как помогала сосредоточиться. Нагнувшись, прикурил от газового кружка. Чего зря спичку тратить.
Он жадно затянулся. Светлячок сигареты ярко вспыхнул, потом пригас. Вспышка. И огонек. Вспышка. И огонек. С каждой затяжкой мысли прояснялись. Словно красная пульсирующая точка посылала сигнал. Безмолвная тревога.
Заверещал чайник.
Точно сирена. Сколько их было, этих сирен. Полицейские. Воздушной тревоги. Все сигналили об одном. Беда на подходе. Опасность рядом.
Чайник свистел. Противный надсадный вой помогал собраться с мыслями. И толкал к скверному выводу.
Агенты МИ-6 ошиблись.
Дагмар мертва, как он и думал.
Драгоценное письмо — фальшивка. Состряпанная, видимо, из старых подлинных писем и дневников. Из погребенных воспоминаний. Штази в этом дока.
Его заманивали в Берлин.
Последний матч
Берлин, 1933 г.
Братьев загнали в угол.
Конечно, зря они пришли.
Как только им в голову взбрело, что все будет по-старому? Думали, наденут футбольную форму, выйдут на знакомое поле и сыграют?
Всю неделю Пауль тревожился. Даже пришпилил на стенку план района, обозначив на нем пути отхода.
— Если придется уносить ноги, нельзя угодить в тупик, — сказал он. — Видишь, вот тут и тут, а здесь огороженная стройка. Нужно точно знать, как с любого места выбраться к метро, понял?
— Если погонятся, будем драться, — хмуро ответил Отто. — На всю-то команду четыре поганых нациста.
— Теперь все нацисты, Отт.
— Слушай, это же наша команда. В школе-то все нормально.
— Пока что.
Все так. В школе слышались злые шепотки, парочка учителей тоже что-то бурчала под нос, но не больше того. Может, и на футболе обойдется?
Даже родители сказали, что нужно пойти на игру. Мальчики давно в команде. Пять лет гонять мяч с одними и теми же ребятами — что-то да значит.
Но теперь Пауль и Отто, загнанные в угол раздевалки, поняли: ни черта это не значит.
В один миг товарищи по команде превратились в озверелую свору, грозившую бедой.
— Жи-ды! Жи-ды!
Ударами шлагбольной биты по хлипкой стене раздевалки здоровяк Эмиль задавал ритм скандирования.
— Жи-ды! Жи-ды!
Братья встали плечом к плечу. Пауль ухватил ножку сломанного стула, крышка мусорного бака и обломок углового флажка служили Отто щитом и мечом. Атакующие мешкали, ибо знали, что в паре братья Штенгель — серьезная угроза.
— Сраные жиды! — выкрикнул Эмиль и, оборвав ритм, шагнул к братьям. — Теперь поплатитесь за все, что сделали с Германией!
Пауль и Отто вгляделись в строй озлобленных лиц. Конечно, Эмиль всегда ненавидел братьев, такие ненавидят всех и каждого, особенно тех, кто не прогибается. Но другие-то ребята считались друзьями. Всего две недели назад они несли Отто на плечах, когда в важном матче юношеской лиги он с корнера забил крученый гол. Но Гитлер у власти уже вторую неделю, и от скорости перемен захватывало дух.
Эмиль Брас ухватился за первую возможность поквитаться со Штенгелями. За то, что они классные футболисты, не чета ему.
За то, что они всегда душа компании, а он слывет угрюмым занудой.
За то, что они нравятся девчонкам, а его и дурнушки величают тупым увальнем.
В Германии пробил час всякого озлобленного недоумка. Наконец-то выпал шанс стать начальником.
Отто понимал расклад. Таких как Эмиль проймешь лишь одним.
Бей первым и наповал.
Таков закон.
Пауль был категорически против. Он исповедовал другой закон. Не вступать в бой, если можно договориться. Это разумный путь. Да — если что, бей наповал, но сначала попытайся не бить вообще.
Отто уже вскинул оружие, на руках его взбугрились мышцы. В неполные тринадцать лет он обладал статью молодого бойца.
Пауль тоже был в отличной форме — отец этим озаботился. Но второй близнец не изготовился к бою. Наоборот, рассмеялся.
Достоинством сего тактического хода была неожиданность.
Свора слегка опешила, но кулаки не опустила.
— Чего лыбишься, жиденыш? — вызверился Эмиль.
— Да рожа у тебя смешная, — ответил Пауль. — Но с тобой нефиг говорить.
Он взглянул на паренька, стоявшего чуть в стороне от группы.
— Чего ж ты, Томми, — сказал Пауль. — Мы же с детского сада дружили.
Отто рыкнул. Что толку взывать к добрым чувствам? Дело слишком далеко зашло.
Но Пауль никого не пытался разжалобить.
План его был наглее. Как говорил Геббельс, уж если врать, то по-крупному.
— Мы не евреи, — заявил Пауль.
Такого никто не ожидал. Свора опешила — Штенгель отрицал общеизвестную истину. Используя всеобщее недоумение, Пауль развил преимущество:
— Скажи, Томми, ты когда-нибудь видел меня с пейсами и в черной шляпе?
Томми и вправду давно дружил с близнецами. И всегда знал, что они — евреи. Нелюди, как известил немецкий канцлер. Подонки. Прожорливая раковая опухоль на теле нации. Кровососы.
— Вы гадские жиды, — сказал Томми. — Но скрываете это, свиньи. Спрятались и затаились.
— Никакие мы не жиды, — рассмеялся Пауль. — Пускай дрочила Эмиль считает нас евреями, он же хер от пальца не отличит. И даже не знает, с какой стороны к мячу подойти.
В толпе прыснули. И Томми усмехнулся.
Только что Эмиль вел команду в атаку на Штенгелей, виновных во всех германских бедах, и все ему подчинялись.
Его душераздирающие россказни помогли мальчишкам одолеть неловкость перед старыми друзьями (и отменными футболистами). Штенгели — жиды, а потому ничего не остается, как хорошенько их вздуть и навеки изгнать. В Берлине в феврале 1933-го всякий, кто дорожил собственной шкурой, не стал бы заступаться за евреев.