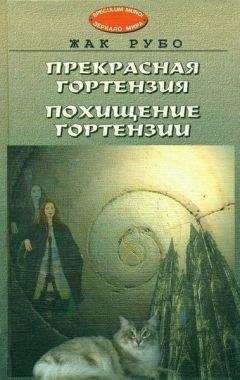Ее расчет оправдался. Нет, на совет она не рассчитывала да и не нуждалась в нем, тем более что трудность своего положения она обозначила весьма туманно (а как объяснить научному руководителю, что все ваше время уходит на плотские утехи?); кроме того, советы, щедро раздаваемые Орсэллсом (и правым, и левым, и центристам, а также культуристам и нумизматам), отличались такой обобщенностью и отвлеченностью, что не могли повредить никому; просто она надеялась выпросить желанную отсрочку, посадив его на любимого конька.
— Дитя мое, — начал Орсэллс елейно-наставительным тоном, — при всех обстоятельствах, особенно в вашем случае, следует обращаться к истокам, то есть к основам, которые являются одновременно онтологическими и моральными, относящимися к этике и в то же время к онтологии, или, как предпочитаю говорить я, — вы знаете мои маленькие слабости, — к онтэтике.
— Трактат «Онтэтика», книга первая, глава первая, сноска «один», первая строка, — машинально пробормотала Гортензия.
— Как вам известно, все основано на моральном значении глагола «надлежать». Фраза «надлежит сделать А» подразумевает, что мы обязательно должны стремиться к исполнению А, и притом во всех возможных мирах, где стоит проблема бытия, а точнее, как я говорил на лекции в первом семестре 19… года, виртуального бытия. «Надлежит» имеет также и всеобъемлющий смысл: говоря «надлежит сделать А», я тем самым утверждаю, что всякому человеку (кому-то другому или мне самому, во всех возможных мирах) надлежит сделать А в идентичных обстоятельствах (то есть в таких же обстоятельствах независимо от положения во времени и пространстве, занимаемого этими индивидуумами и этими мирами). Следовательно, «надлежит сделать А» можно истолковать как «я хочу, требую и приказываю, чтобы в любой схожей по абстрактным характеристикам ситуации абсолютно каждый сделал А».
Из этих предпосылок, которые не поставил бы под сомнение ни один здравомыслящий философ (лицо профессора на мгновение омрачилось при воспоминании об одном собрате, все же поставившем их под сомнение), я вывел «золотое правило онтэтики», особенно применимое, как говорят наши кембриджские друзья, в вашем случае:
Вы вправе поступить с кем-либо определенным образом, только если вы готовы:
1. сделать то же самое во всех возможных мирах;
2. согласиться с тем, чтобы объектом данного поступка стали вы сами.
— В любом из возможных миров? — спросила Гортензия.
— В любом из возможных миров, разумеется. Это я вам привел в сжатом виде тот вывод, который неизбежно следует из «золотого правила». А теперь, дитя мое, попробуйте применить это правило к вашей просьбе об отсрочке, учитывая, что в этом мире объектом вашего поступка являюсь я, — сказал он с улыбкой.
— Да, конечно, — сказала Гортензия, — но, может быть, надо попробовать на другом примере, более далеком от нас…
— Ну ладно, предположим, что я задаю следующий вопрос: должен ли я оттолкнуть стоящего впереди человека, чтобы раньше него сесть в автобус? Это конкретная, насущная проблема, которая сплошь и рядом возникает в нашей повседневной жизни. Подъезжает автобус, мы видим, что он переполнен и что если мы проявим пассивность, то не сядем в него даже последними, зато будем первыми, кто не сел. Тут-то и возникает вопрос: толкать или не толкать? У вас остается секунда на то, чтобы применить «золотое правило онтэтики». Вот почему надо знать все его аспекты. «Золотое правило» гласит: я должен толкнуть его в том и только в том случае, если в конечном итоге для меня лучше, чтобы я толкал и меня толкали, а не то, чтобы не толкали никого — ни меня, ни человека, стоящего передо мной в очереди на автобус. Ибо абстрактный смысл данной ситуации в том, что толкать и быть толкаемым — по сути одно и то же, а это, согласитесь, глубочайшая философская истина. То, что объект и субъект меняются местами, ничего не меняет. Но вся прелесть в том, — и Орсэллс, увлекшись, порывисто схватил Гортензию за правое колено, — что эта моральная теорема действует только в том случае, если стоящий впереди хочет того же, что и вы. Но ежели впереди вас стоит какой-нибудь робкий паренек или беспомощная старушка, которые вовсе не желают толкаться и не будут особенно возражать, если толкнут их, — в этом случае толкаться надо. Толкайтесь, толкайтесь — у вас на это полное моральное право! Можно было бы рассмотреть вариант той же ситуации с тремя участниками, — добавил Орсэллс, — именно таким путем мне удалось решить проблему «трех небесных тел», над которой безуспешно бьются физики и астрономы.
Гортензия высвободила колено, поблагодарила Орсэллса за бесценный совет и сказала, что ей необходимо выяснить, какие аспекты «золотого правила» применимы к ее научной работе. Без сомнения, через два месяца она сможет дать исчерпывающий ответ на этот вопрос (именно такую отсрочку она просила у профессора: возможно, в ноябре, думала она, любовные безумства не будут отнимать у нее столько времени, и ей удастся сосредоточиться на плане диссертации).
И она ушла.
Глава 18
Великая буря осеннего равноденствия
Этому событию предшествовала долгая подготовка. Словно повинуясь небесному велению, за несколько дней до равноденствия духота начала сгущаться и постепенно стала невыносимой. Дети ни с того ни с сего поднимали рев, царапались, доводили родителей до ручки; родители без всякого повода орали друг на друга; продавцы лимонада процветали, едва успевая подвозить товар; собаки высовывали язык от жажды; деревья, дома и даже небо покрылись, будто пленкой, липкой испариной; холодильники тоже высовывали язык; люди на террасах кафе напоминали китов, выброшенных на берег в Биаррице. Отец Синуль не протрезвлялся, причем непреднамеренно: каждая очередная кружка пива выходила из него потом, и жажда только усиливалась. Даже инспектор Блоньяр выпивал по три двойных гренадина-дьяволо. Надвигалась великая буря осеннего равноденствия. Метеорологи предсказывали ее уже шесть раз, но ее все не было. Над Святой Гудулой плыли тяжелые черные тучи, похожие на мешки с мукой или цементом; они в сомнении качали головой и уносились вдаль, чтобы пролиться дождем где-нибудь над Польшей или над Триестом.
И вот, наконец, момент настал. В три часа дня на улице почти стемнело. Небо было цвета олова, или ярь-медянки, или пепла на пожарище. Антиквару Андерталю (он побежал домой, в четвертый подъезд, на первый этаж дома 53 закрывать окна, которые оставил открытыми, чтобы уловить хотя бы слабое дуновение воздуха) это напомнило древнеанглийский оловянный сосуд, приобретенный им за сходную цену и суливший большую выгоду. Тучи проплывали совсем низко, сливаясь воедино и угрожающе нависая над головой.
В шесть вечера, за два часа до захода солнца по летнему времени, изобретенному нам на радость в двадцатые годы сенатором Онора, упало несколько капель дождя. Но то была ложная тревога. Однако птицы попрятались, и улица опустела. На самом деле Провидение собиралось начать боевые действия к восьми часам. Месье и мадам Буайо пререкались с последними покупателями. Буайо гонял мух, укрывшихся в лавке и от страха забывших про ростбиф. Маленькая Вероника сидела одна в детской. Ей совсем не нравилось небо за окном, она очень испугалась и хотела уже заплакать и позвать маму, чего обычно из гордости старалась не делать, как вдруг к ней на кровать вскочил Александр Владимирович и потерся прохладной мордочкой о ее нос. И она сразу перестала бояться.
— Алисан Владимивич! — нежно сказала она.
Александр Владимирович быстро лизнул ее шершавым языком, затем залез к ней на грудь, как на перину, и вскоре она заснула; и сам он задремал на часок, убаюканный ее мерно поднимавшейся и опускавшейся грудью.
Поднялся ветер, из песочницы полетел песок; для острастки ветер перевернул несколько помойных баков, потом остановился и стал выжидать; улица снова опустела. По радио все еще передавали, что завтра будет ясная солнечная погода. Но вот ветер принялся за дело по-настоящему. С дома на Староархивной улице сорвались три черепицы и кусок карниза. И началась неистовая буря осеннего равноденствия. Захлопали небрежно закрытые окна, пошел счет разрушениям (прочие подробности см. у Виктора Гюго и Джозефа Конрада). Александр Владимирович проснулся и тихо удалился, не разбудив девочку.
Буайо закрыл магазин, мадам Буайо отправилась на кухню греть ужин. Настало время традиционного визита Александра Владимировича, когда их с мясником объединяло общее дело, ибо у них была одна и та же страсть, и даже буря не могла помешать ее удовлетворению. Это происходило лишь в определенный час, вдали от осуждающего взгляда мадам Буайо и в отсутствии покупателей: к концу дня, после того как товар был убран в холодильник, а мусор выброшен, на прилавке под старинной картиной, предметом особой гордости Буайо (см. гл. 2), оставались кусочки более или менее жирной баранины, свинины, телятины и говядины, и мясник их съедал; но не в одиночку, а вместе с Александром Владимировичем, у которого была та же страсть. Однажды, когда он угощался один, жена застала его за этим занятием и пришла в ужас, вот почему он стал делить трапезу с Александром Владимировичем, чтобы иметь оправдание в случае внезапного появления мадам Буайо. Александр Владимирович также любил утолять свою страсть потихоньку: ведь он знал, что Буайо ни за что не донесет на него мадам Эсеб.