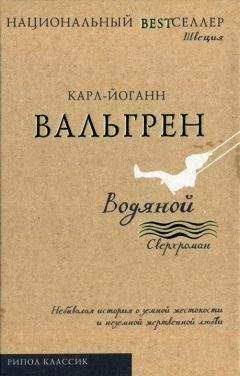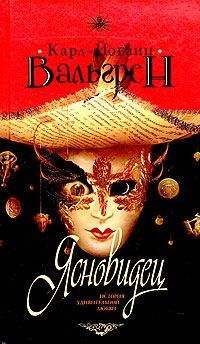Норковая ферма занимала довольно большую территорию — метров пятьсот в длину и почти столько же в ширину. С каждым шагом усиливался запах рыбы и удобрений. Пять бараков стояли в ряд, а один — чуть поодаль, но сейчас он пустовал.
Жилой дом в стороне. Ворота открыты, но машин во дворе нет. В двадцати метрах направо — несколько деревьев. Туда нам и надо.
На сетке ограды предупреждение: «Осторожно, сторожевая собака». Рядом — фотография овчарки и надпись от руки: «Если собака вас атакует, не шевелитесь и ждите сторожа».
И тут же мы услышали лай. Но, по-видимому, собака учуяла или увидела кого-то еще, потому что лаяла она на другой стороне фермы, у дороги.
Залезть на дерево нам не составило труда. У меня, честно скажу, поджилки тряслись. Отсюда открывался вид на всю территорию. Длинные, открытые с боков бараки, цистерны, куда собирали мочу и помет зверьков, высушивали и продавали как удобрения. Отдельный барак, где переодевались рабочие, и еще один, побольше, — там зверьков умерщвляли и там же вывешивали шкурки на просушку. Посередине двора стоял старый мини-автобус «фольксваген», от его выхлопной трубы шел шланг в специальную камеру, где зверьков убивали угарным газом.
Мы спрыгнули на землю. Лай внезапно стих, теперь до нас доносились только крики чаек, ни на секунду не прекращающийся шум моря и глухие неритмичные вздохи прибоя. Я осмотрелась — если вдруг на нас бросится собака, у нас ни единого шанса унести ноги. Мне стало очень страшно, но я тут же успокоилась — мы обогнули угол первого барака, и оказалось, что собака привязана на цепи у главных ворот. Наверное, владельцы специально ее привязали, чтобы она не носилась по территории и не пугала зверьков. А может, посчитали, что важнее всего охранять вход на ферму, поскольку это единственное место, откуда воры могут вынести шкурки в достаточном количестве. Собака нас вообще не заметила, даже когда мы вышли на открытое место меньше чем в сотне метров от нее, — ветер дул с ее стороны.
Самый короткий путь к главному зданию лежал через первый барак, и я тут же вспомнила — я тут была, когда отец работал на ферме. Он как-то взял меня с собой. Повсюду на полу норковый помет. Жестяные подносы с кормом у каждой клетки. Зверьки смотрели на нас с любопытством, прижимали носы к проволочной сетке или вставали на задние лапки, чтобы лучше рассмотреть. Я вспомнила — в каждой клетке содержат пять норок, но сейчас, после убоя, остались только производители и зверьки с темным мехом. Их умертвят позже. Маленькие глазки-пуговки смотрели на нас с явным поощрением. Наверное, решили, что мы пришли их покормить. Некоторые и так были жирными, как поросята. Я впервые заметила, что мех у зверьков отличался по цвету от клетки к клетке.
Чайки скребли когтями по жестяной крыше. Чайки — постоянные гости на звероферме, им то и дело перепадают излишки корма: рыба, цыплячьи лапки и потроха, протухший корм. Их крики напоминали издевательский хохот, они словно высмеивали наше предприятие. То и дело я боковым зрением улавливала какое-то движение: норки бегали по клеткам — наверное, искали угол зрения, чтобы нас получше рассмотреть.
Наконец мы подошли к главному зданию. Дверь была заперта.
— Подожди здесь, — сказал Томми, — я пролезу через грузовой люк.
Через минуту он открыл дверь, и в нос ударила волна жуткой вони — смесь гниющей крови, запаха желёз, внутренностей, ободранных тушек и какой-то еще едкий запах. Скорее всего, запах ужаса перед неминуемой смертью.
Мы находились в помещении, где происходит убой. Прямо у грузового помоста стоял жестяной ящик — камера-душегубка, где норок умерщвляют угарным газом. Они при этом кричат. Отец рассказывал. Обычно норки на редкость молчаливы, можно даже подумать, что они немые. Но когда в камеру поступает газ, они кричат, как крысы. Зверьки умирают в течение нескольких минут, и потом на жестяных стенках камеры видны следы их когтей — они отчаянно пытаются выбраться на воздух.
Меня чуть не вырвало. Пол покрыт отрезанными норковыми лапками, опилки на полу впитали всю кровь, а ободранные тушки свалены в большую пирамидальную кучу. Глаза, зубы, фасции — все на месте, не хватает только меховой шубки. Тушки напомнили мне монстров-инопланетян из фильма, который я смотрела еще в седьмом классе, только сильно уменьшенных в размерах.
— Это плохо, — сказала я. — Сюда в любой момент могут прийти. Тушки нельзя оставлять надолго — начнут гнить.
— Еще долго не начнут. Ты что, не чувствуешь, какой здесь колотун?
Это правда — в помещении было очень холодно, прямо как в холодильнике. Я только сейчас, после слов Томми, почувствовала, что мерзну.
— Пошли скорее, — нетерпеливо сказал Томми. — У нас мало времени…
За дверью было рабочее помещение. Здесь теплее — работали вентиляторы. Тут же за стенкой — сушилка, где шкурки растягивали на специальных рамках для просушки. Самые лучшие на аукционе потянут на несколько тысяч крон. Здесь тоже пахло, правда, меньше и по-иному, чем в убойной. Я вспомнила: отец говорил, что с внутренней стороны шкурок соскребают жир, который потом продают в косметические фирмы и для производства особо шикарного крема для обуви — для богатых. Может, этим жиром и пахло?
Мы прошли дальше по коридору. Еще одна дверь. Собака, очевидно, почуяла что-то неладное и грозно залаяла вперемежку с рычанием.
— Подожди. — Томми пробежал чуть дальше по коридору, открыл какой-то шкаф и достал оттуда выкрашенный красной краской ящик, тот самый ящик с лекарствами, который я видела в рыбарне. — Можешь поиграть в ветеринара, но я и близко к нему не подойду, — сказал он и протянул мне ящик. — Даже не надейся.
Он открыл дверь и повернул выключатель.
— Где мы?
— В кормовой кухне.
Мы стояли в комнате, тускло освещенной лампами дневного света. На полу тут и там валялись остатки разделанной рыбы — плавники, хвосты, высохшие рыбьи головы. На массивном цементном помосте — гигантская мясорубка. В нижней части — толстая труба, ведущая к большому жестяному противню. Вдоль стен — мешки с рыбной мукой и зерном. Под потолком — огороженная листами шифера антресоль, туда вела узкая ржавая лестница. Там тоже валялись какие-то мешки.
— Ты раньше здесь бывал?
— Тысячу раз. Но после того, как его сюда привезли, ни разу.
— И где он?
— Думаю, там… — Томми показал на двустворчатую застекленную дверь.
Я заглянула — и в глазах мгновенно закипели слезы. Водяной лежал в холодильной камере на боку, прикованный цепью к трубе в полу. На запястьях, если их так можно назвать, — наручники, мало того, пальцы замотаны толстой леской. И хвост тоже прикован цепью, запертой на висячий замок. Сверху подвешен садовый шланг, из него течет тонкая струя воды, направленная только на туловище.
Он не шевелился. Глаза закрыты и почти залеплены гноем и свернувшейся кровью. Перепонки на пальцах лопнули. Я заметила, что на ране в щеке почернели края — наверное, уже отмирает ткань. По всему телу чуть не дюжина свежих ран.
— Что они наделали? — Я хотела крикнуть, но вместо крика получился хриплый шепот.
— Не знаю…
— Ты что, не видишь? Он же весь изранен…
На полу рядом валялся кухонный нож. Неужели они резали его заживо этим ножом?
— Найди выключатель, — попросила я, — он не переносит света.
Томми с трудом нашел выключатель. Теперь сюда проникал только мертвенный свет из кухни.
— Иди ты первая, — сказал он.
Водяной лежал в тесной каморке на боку, совершенно неподвижно. Я прислушалась — ни звука. На какой-то момент мне показалось, что мы опоздали, что он уже умер… и тут же решила, что никогда себе этого не прощу. Но нет, от тела исходило тепло, и вода, стекающая на грудь, как бы испарялась.
— Не бойся, — сказала я тихо, — никто тебя не обидит.
И тут я впервые поняла, насколько он огромен. Если бы я легла с ним рядом, лицом к лицу, ноги мои оказались бы на уровне в лучшем случае пупка. Я положила руку на его странный, похожий на дельфиний лоб. Лоб горячий — должно быть, жар. И тут я услышала тихий, шелестящий звук из гортани и увидела слабое, остановленное цепью движение хвоста.
— Ты меня слышишь? — прошептала я. — Узнаешь?
И он ответил. Не сразу, но ответил. Беззвучно, но совершенно понятно. Да, он меня слышал, он знал, кто я, и знал, что я не одна.
— Это друг, — прошептала я. — Не бойся его. Я же сказала, что вернусь.
Томми стоял в проеме двери, бледный, точно увидел привидение.
— Ты была права, — сказал он, тоже почему-то шепотом. — Я слышу его, Нелла. Он разговаривает с нами…
Я осматривала израненное тело и думала, что никогда и никому не смогу объяснить, как это может быть. Никогда и никто не поймет, как можно разговаривать без слов и даже без звуков. И я не понимаю, и все же это так. Невероятное существо ясно дало нам понять, что оно думает. И это вовсе не мое воображение — Томми услышал его так же ясно, как и я.