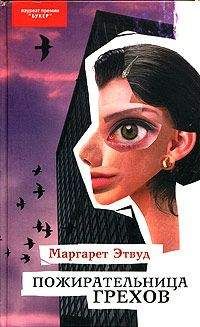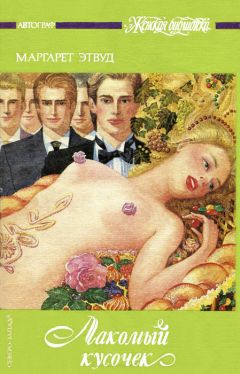Да, самое главное: этот мужчина обязательно должен быть незнакомец. Хотя по статистике, из того, что печатают в журналах, ну, в большинстве из них, там говорится, что, наоборот, как правило, это кто-то из ваших знакомых, кого вы хоть немного знаете, начальник и так далее — но, думаю, что только немой начальник, ему за шестьдесят, он, бедняга, и бумажный пакет-то не сможет изнасиловать, нет, Утка Дерек еще куда ни шло (замнем про его толстые стельки), или кто-то из новых знакомых, он приглашает тебя в кафе, что же теперь, с людьми не общаться? Как теперь знакомиться, если не доверяешь людям даже в такой малости? Не сидеть же всю жизнь в регистратуре или дома в четырех стенах, окна и двери на запоре. Я, конечно, не пьяница, но люблю время от времени сходить куда-нибудь, выпить бокальчик-другой в хорошем приличном месте, даже если одна; тут я солидарна с движением за права женщин, хотя во многом я с ними не согласна. А в этом кафе меня знают все официанты, и если меня кто-то… ну, побеспокоит… Не знаю, зачем я вам все это говорю, но так сразу просекаешь человека, особенно на первых порах, когда слушаешь, в какую сторону у него мозги варят. На работе меня зовут клушей-кликушей но это не значит, что я хочу беду накликать, я просто понять хочу, как себя вести в экстремальной ситуации, я о том и говорю.
Во всяком случае, другая сторона фантазии в том, что там много разговоров, больше всего времени я трачу, ну, во время фантазий, представляя, что скажу я и что скажет он, главное не замолкать. Ну кто вас обидит, если вы с ним по душам поговорили? Пусть он поймет, что вы живой человек и у вас тоже есть своя жизнь, не представляю, как после этого можно насиловать, верно? То есть я знаю, что такое случается, но я этого не понимаю, хоть убейте.
Должен быть какой-то способ, подход, метод — вот слово, что мне нужно, оно убивает бактерии. Итак, метод, образ мысли — бескровный и, следовательно, безболезненный. Безмятежное вспоминание былой привязанности. Я пытаюсь вспомнить себя тогдашнюю и тебя тогдашнего, но это как поднимать мертвых из гроба. Откуда мне знать, что я не выдумываю нас с тобой, ведь иначе это и впрямь как поднимать мертвых из гроба, опасная игра. Не стоит трогать спящих, иначе они восстанут, будут механически блуждать по улицам, эти сомнамбулы, по улицам, где мы прежде жили: тускнея год от года, их голоса затихают, и остается тонкий прозрачный звук, точно пальцем проводят по мокрому стеклу, точно писк насекомого — безо всяких слов. С мертвыми не поймешь: то ли живые хотят их воскресить, то ли мертвые сами хотят возвратиться. Обычно говорят так: мертвым есть что сказать. Но я не верю. Это я хочу что-то сказать мертвым.
Будь осторожен, хочется написать, ведь есть будущее. Рука Господня на стене храма, светлая и неотвратимая в первом снеге, лежащем пред ними, и они идут — я представляю, что это декабрь, — они идут по кирпичной мостовой Бостона, города гниющих сановников, они идут, на ней туфли на шатких высоких шпильках, ей хочется повоображать, а ноги-то намокли. А боты тогда были уродливые, тяжелые, бесформенные, резиновые, похожие на носорожьи лапы, их еще называли легкоступами, или с меховой оторочкой по верху, как на старушечьих шлепанцах, и с грубыми шнурками. Или еще были такие винтовые дождевые ботинки с клиновидным мысом: они быстро желтели, изнутри покрывались коркой грязи и походили на захороненные зубы.
Вот мой метод, я воскрешаю себя через одежду. Невозможно вспомнить, как я поступала, что происходило со мной, пока не вспомню, что на мне было надето, и каждый раз, выбрасывая свитер или платье, я выбрасываю часть своей жизни. Я скидываю лики, точно змея, оставляя позади мои бледные и сморщенные “я”, след от них, и если я хочу что — либо вспомнить, мне нужно собрать воедино все эти шерстяные и хлопчатобумажные фрагменты, сложить их вместе, лоскутная техника собирания меня, но этой одеждой от холода не защититься. Я концентрируюсь, вспоминаю, и моя потерянная душа миазмически возникает из одежной лавки “Пожертвования для увечных”: лавка на стоянке Лоблоз в центре Торонто, там я и нарыла это пальто.
Пальто было длинное и черное. Хорошего качества — в то время ценилось хорошее качество, и в женских журналах печатали про это статьи: как правильно гладить вещи, как удалять пятна с одежды из верблюжьей шерсти. Но пальто было длиннющее и велико, рукава по костяшки пальцев, и еще на мне были ботинки, тоже велики. А пальто я так и не перешила, почти вся моя одежда была такая, сильно мне велика. Я полагала, что, если спрячусь в громоздкой своей одежде, как в палатке, меня не заметят. Но происходило обратное: на меня все оглядывались: я шла по улицам, я пробиралась, громоздкая, в своей оболочке из черной шерсти, голова замотана — не помню, кажется, добротным клетчатым шарфом из ангоры; в общем, голова замотана.
Свою одежду я покупала — я редко себе ее покупала (я, как и ты, была бедна — может, отсюда наш надрыв), так вот: я покупала одежду в подвальном магазинчике “Файлин”, где распродавались по дешевке приличные вещи, те, что не удалось сбыть в магазинах пошикарнее. Часто приходилось мерить одежду в проходе, примерочных не хватало. Сам подвальчик — действительно подвал, с низким потолком, тускло освещенный, пропитанный запахом потных возбужденных подмышек и отдавленных ног, — в дни скидок подвальчик заполнялся агрессивными особами в лифчиках и комбинашках, и они натягивали оригинальные модели от какого-нибудь дизайнера, и рвали их по шву, и пачкали — и кругом слышалось натужное дыхание и скрежет сотен залипших молний. Обычно люди смеются над женщинами, что охотятся за скидками, смеются над их жадностью, истеричностью, но тот подвальчик был по — своему трагичен. Всякая женщина в нем мечтала о стройных формах, о трансформации, о новой жизни; только втиснуться в эти тряпки не могла.
Под черным пальто на мне толстая твидовая юбка и коричневый свитер с единственной, почти неприметной дырочкой, которой я дорожу — это дырка от твоей сигареты. Под свитером на мне комбинация (слишком длинная), лифчик (он мне мал), трусики в алых розочках — их я тоже купила в подвальчике, двадцать пять центов за штуку, пять штук за доллар; еще я надела нейлоновые чулки с поясом, который мне велик и елозит, отчего задние швы на чулках извиваются, как червяки. Я тащу за собой чемодан, и он очень тяжел — в те времена никто еще не ходил с рюкзаками, только в летних лагерях. В чемодане лежит моя одежда, она громоздкая и велика мне, шесть готических романов девятнадцатого века и пачка чистой бумаги. В другой руке, противовесом для чемодана, — портативная пишмашинка, и через плечо громадная сумка из подвальчика, бездонная, как гробница. Сейчас февраль, ветер треплет сзади черное пальто, виниловые ботинки скользят по льду тротуара: за стеклом одного из магазинчиков я вижу толстую, краснолицую навьюченную тетку. Я безнадежно влюблена и направляюсь на вокзал — я сбегаю.
Будь я богаче, я бы отправилась в аэропорт. Полетела бы в Калифорнию, в Алжир, где все такое чужое, елейное, к тому же там тепло. Но когда я сяду в поезд, у меня хватит денег только на обратный билет и три дня в Салеме. Съездить к пруду Уолден[13] тоже, наверное, полезно, только зимой там плохо. Я уже объяснила себе свой выбор: с образовательной точки зрения гораздо лучше побывать в Салеме, а не в Алжире, ведь нужно “работать” — писать про Натаниэля Готорна.[14] Они и сейчас называют это словом “работать”. Я впитаю в себя атмосферу; может, из этой поездки, которая меня вовсе не радует, пробьется к свету академический труд, словно чахлый одуванчик через трещину в асфальте, и я стану ученым. Эти унылые улицы, эта пуританская скука, этот февральский ветер с моря — я будто нырну в холодную воду, дав толчок моему таланту литературного критика, таланту вырубать слова и писать достоверные сноски, чтобы капали хоть какие-то деньги. В последние два месяца этот талант парализовало несчастной любовью. Я думала, несколько дней вдали от тебя позволят мне все обдумать. Но, как стало ясно дальше, толку от этого никакого.
В то время я, видимо, только к несчастной любви и была способна. Она доставляла мне много боли, но, оглядываясь назад, я понимаю, что были в том и свои преимущества. Я получала всю полноту эмоций, и безо всякого риска, жизнь моя не менялась и оставалась предсказуемой. Она была скудна, но это была моя жизнь. И никакой ответственности. В нагой физической реальности мне пришлось бы раздеваться (прячась в ванной — какая женщина хочет, чтобы мужчина заприметил на ней английские булавки), но мой метафизический двойник остался бы равнодушен. В те времена я верила в метафизику. Мой платонический облик напоминал египетскую мумию, таинственный спеленатый предмет, который, если его размотать, рассыплется в прах, а может, и нет. Но несчастной любви не нужны никакие стриптизы.