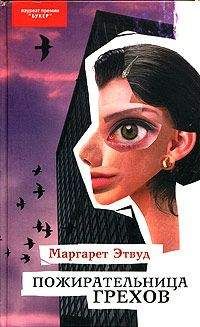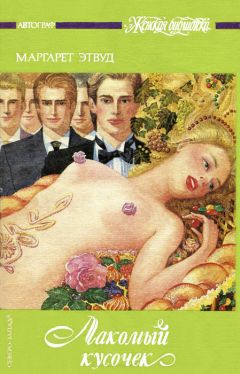В то время я, видимо, только к несчастной любви и была способна. Она доставляла мне много боли, но, оглядываясь назад, я понимаю, что были в том и свои преимущества. Я получала всю полноту эмоций, и безо всякого риска, жизнь моя не менялась и оставалась предсказуемой. Она была скудна, но это была моя жизнь. И никакой ответственности. В нагой физической реальности мне пришлось бы раздеваться (прячась в ванной — какая женщина хочет, чтобы мужчина заприметил на ней английские булавки), но мой метафизический двойник остался бы равнодушен. В те времена я верила в метафизику. Мой платонический облик напоминал египетскую мумию, таинственный спеленатый предмет, который, если его размотать, рассыплется в прах, а может, и нет. Но несчастной любви не нужны никакие стриптизы.
Когда моя любовь была взаимной, что случалось несколько раз, вставал вопрос о будущем, о принятии решения, а значит — о жужжании электробритвы в ванной, где бреется твой любимый, и о соскребании с тарелки остатков яичницы, поданной на завтрак, — и тут я впадала в панику. Из моих литературных изысканий мне было известно, что наступает момент, когда близкий друг, которому доверяешь, вдруг отращивает клыки и оборачивается летучей мышью; этого я как раз не боялась. Неприятно другое — когда пелена спадает с глаз, и возлюбленный оказывается не полубогом и не монстром, бездушным и неотразимым, — а просто человеком. То, над чем при свече трепетала Психея, оказывалось не крылатым богом, а прыщавым юношей с тщедушной голубиной грудью, и потому так трудно вновь пробиться к истинной любви. Легче любить демона, чем человека, хотя в этом меньше героизма.
Конечно же, ты был для меня идеальным объектом любви. Я смотрела в твои грустные глаза и не читала в них банальностей про газонокосилки и домики с верандой. Твой взор был черен, как черный мрамор, непроницаем, как погребапьная урна, и ты кашлял, как Родерик Ашер.[15] В моих глазах, а следовательно, и в твоих собственных, ты был мятежен и обречен, словно Дракула. Почему скорбь и тщета столь притягательны для молодых женщин? Я наблюдаю тот же синдром среди своих студентов: эти ознобные молодые люди, что разлеглись на мягких коврах в комнате отдыха — у нас очень заботливое университетское начальство, — эти неопрятные вялые юноши, словно замученные глистами, — и при каждом своя девушка, что покупает ему сигареты и кофе и выслушивает его злобные излияния, а он презирает весь мир и эту девушку, и ее манеру одеваться, и что у ее родителей два телевизора (хотя с его родителями наверняка та же история): ну что у нее за друзья, и что она такое читает, и что за мысли у нее в голове. Почему девушки с этим мирятся? Может, по контрасту с ними они чувствуют себя здоровыми и жизнерадостными; или, может, эти молодые люди, как зеркало, отражают девичий хаос и ущербность, кои девушки боятся осознать.
Наш случай отличался только внешне, надрыв — тот же. Я пошла на отделение критики, потому что не хотела работать секретарем, или, иными словами, не хотела всю жизнь покупать добротную одежду в подвальчиках. Ты же не хотел в армию, а в то время в университетах еще можно было откосить. Мы оба родом были из провинции, и местные ротарианцы, находясь в неведении относительно наших мотивов, полагали, что их скромные фанты помогут нам сделать непонятную им, однако славную карьеру, и это необъяснимым образом сделает честь их сообществу. Но ни я, ни ты не хотели быть учеными, а настоящие экземпляры, иные из которых были коротко стрижены, расхаживали с презентабельными портфелями, словно менеджеры с обувной фабрики, — такие ребята были нам противны. И вместо того чтобы “работать”, мы проводили время, попивая разливное пиво в самом дешевом немецком ресторанчике, мы высмеивали помпезность семинаров и интеллектуальную манерность студентов. Или мы бродили меж библиотечных полок, выискивая экземпляры с заумными названиями, о которых вряд ли кто слышал, и подкидывали эти названия на семинаре, выдерживая тот самый снисходительный тон будущих завкафедрой, не меньше, и наблюдали, как мечется тревога в глазах наших сокурсников. Иногда мы пробирались на музыкальный факультет, находили свободное пианино и распевали сентиментальные викторианские песенки или резвые хоровые партии из Гилберта и Салливана,[16] или заунывную балладу Эдварда Лира: в начале года студентам задали вычислить в ней фрейдистскую символику. А баллада эта — такая нескладная, ну точно как моя коричневая вельветовая юбка, которую я сшила сама, а подол скрепила в нескольких местах степлером, потому что у меня не хватило моральных сил ее подшивать.
На брегу Короманделя
Дует в тыкве, как в трубе:
В глубине густого леса
Жил-был Йоги-Бонги-Бе.
Полсвечи, два стула, нитки,
Ковш без ручки — для замеса:
Вот и все его пожитки
В глубине густого леса…
Куцая свеча и сломанный ковш были предметом ехидных насмешек на нашем семинаре, а нам двоим виделся во всем этом неизъяснимый трагизм. Такое положение дел в Короманделе, эта безнадега и нищета говорили сами за себя.
Думаю, беда наша была в том, что ни мир вокруг нас, ни наше светлое завтра не давало нам картинки, кто же мы такие будем. Нас выбросило в настоящее, мы словно оказались в пустой электричке, что застряла в тоннеле метре, и в нашем мрачном одиночестве мы цеплялись за тени друг друга. Во всяком случае, так думала я, таща свой чемодан сквозь ледяной сумрак к единственной, как сказал проводник, работающей гостинице. Я с трудом теперь вспоминаю вокзальчик, наверное, потому, что он был тесен и темен, грязный оранжевый свет лампочек, как в бостонском метро, и слабый запах хлорки от старых луж мочи, а старость нужно уважать. И напоминало все это не о мире пуритан, ведьм или хотя бы толстых судостроителей, а позднейших мирах, где обитают тщедушные чахоточные столяры.
Сама гостиница тоже отдавала тленьем и видывала лучшие времена. Сейчас тут работали маляры, и коридоры были заставлены стремянками, кругом рулоны брезента. Гостиница работает только благодаря реконструкции, объяснил мне портье, который, похоже, был одновременно коридорным, управляющим и, вполне возможно, самим хозяином. Только благодаря реконструкции работает гостиница, говорил он, иначе он давно бы ее закрыл и уехал во Флориду. “Люди приезжают сюда только летом, — продолжал он, — чтобы посмотреть на “Дом о семи шпилях”[17] и прочее”. Ему совсем не понравилось, что я приехала, тем более что я не сообщила убедительной причины. Я сказала, что приехала посмотреть на могилы, но он не поверил. Он тащил мой чемодан и пишущую машинку и все время оглядывался, будто ждал, что за моим плечом вот-вот замаячит мужчина. Нелегальный секс — вот единственная причина оказаться в Салеме в феврале, думал он. И, конечно, был прав.
Он поселил меня в холодной комнатке, где стояла узкая и жесткая кровать, словно полка в морге. В окно с моря задувал пронизывающий ветер; управляющий об этом знал, и потому топили хорошо: каждая водяная атака предварялась грохотом батареи, точно молотками били в свинцовый гонг.
Я то проваливалась в сон, то просыпалась и думала о тебе, проигрывала наше будущее, которое, я знала, окажется кратким. Конечно же, мы переспим, хотя до этого пока не дошло. В те дни, как ты помнишь, прежде это полагалось обсудить, но до сих пор ты несколько раз неожиданно потискал меня на улице, а однажды, при полной луне, на пустынной мощеной улице, положил руку мне на горло и сказал, что ты — Бостонский душитель.[18] Эта шутка, учитывая мои литературные пристрастия, равнялась попытке меня соблазнить. И хотя секс был необходим и даже приятен, я больше размышляла не о нем, а о нашем расставании, которое представлялось мне грустным, нежным, неизбежным и окончательным. Я его проигрывала во всех вариантах: в дверях, у парома, в поезде, в самолете, в метро, на скамейке в саду. Мы будем немногословны, мы лишь посмотрим друг на друга, мы поймем (хотя что именно мы поймем, я себе не представляла); а потом ты завернешь за угол и исчезнешь навеки. На мне будет тречкот, который я еще не купила, хотя уже приглядела осенью у Файлин. Сцена на скамейке — я решила, для контраста с настроением пускай будет весна, — это было так трогательно, что я расплакалась, но боялась, что меня услышат, и старалась плакать, когда гремит батарея. Тщета притягивает молодых людей, а я еще ее не исчерпала.
К утру я устала от горестных размышлений и нытья. Я решила поискать на заброшенном кладбище какую-нибудь изящную эпитафию для моей работы о Готорне. Когда я шла по коридору, рабочие в холле стучали молотками и малярничали, они таращились на меня, как лягушки из пруда. Портье с неохотой выдал мне брошюрку для туристов — издание Торговой палаты; в брошюре была карта и краткое описание достопримечательностей.