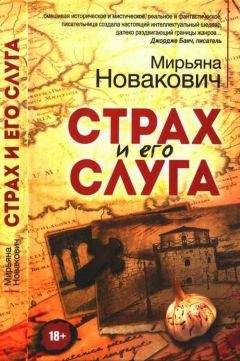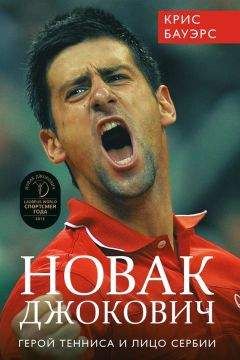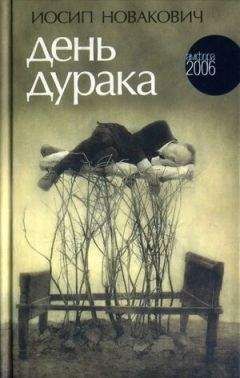У меня было написано: «Радость в дороге, а не в цели».
Китай?
Да, пророчества были на китайском. Их переводил нам граф Шметау. Всем, разумеется. Никто из нас китайского не знал. Хотя…
Хотя я очень хорошо, словно это было вчера, помню, что фон Хаусбург заметно вздрогнул, когда развернул свою бумажную ленточку. Тогда я подумала, что он мог прочитать и понять пророчество и что оно заставило его вздрогнуть. Однако и он передал свою бумажку Шметау, чтобы тот ему перевел. И граф Шметау перевел:
— Твой мир есть совокупность фактов, а не вещей. — Фон Хаусбург изумленно посмотрел на него, словно Шметау произнес вовсе не то, что там написано, а нечто совсем другое. Но ничего не сказал, взял бумажку и скомкал ее.
Что было написано у Шметау?
Уже не помню. Кажется, что-то хорошее. Что-то совершенно ясное и благоприятное, в отличие от тех пророчеств, которые достались мне и фон Хаусбургу — они были не хорошими и не плохими, а непонятными. По крайней мере, непонятными в то время.
Нет, меня не удивило, что граф Шметау знал китайский. Он любил китайцев и все китайское. Это все знали. Он часто говорил: «Здесь восток очень близко», и любил рассматривать китайские картины, а во дворце они были развешаны всюду. Загадочные, написанные бамбуковыми чернилами на шелке китайские пейзажи. Я уверена, что созерцание этих картин его успокаивало. Я встречала его нечасто, но всякий раз, когда он попадался мне где-нибудь во дворце, он стоял, всматриваясь в одну из них.
5.
Ступенька… Да, ступенька.
— А я тебе когда-нибудь рассказывал, как я, следуя за Беззубым по ступеням на Голгофу, обогнал Марию Магдалину? Вот это была душа, знаешь, такая душа, какие не часто встречаются. Даже я, который чего только на этом свете не повидал, не смог устоять перед этой измученной душой. Любовь…
— Хозяин, зачем вы мне это рассказываете? Вы что, правда считаете, что умеете хорошо рассказать историю? Да к тому же еще любовную? Вы не в состоянии рассказать любовную историю. Почему? Во-первых, потому что вы не умеете любить. Можно быть знающим и мудрым рассказчиком, но если не умеешь любить, ни в знаниях, ни в мудрости нет никакого прока.
— То, что ты сейчас сказал, очень глупо, — ответил я резко. — Потому что если это действительно так, то, значит, только убийца сумеет рассказать об убийстве, только предатель — о предательстве, только я — о зле и только ангел — о добре.
— Это полуправда, хозяин.
— Как так?!
— А так, что только дьявол не становится лучше после того, как рассказ закончен. Рассказчик должен учиться по ходу того, как рассказывает: любовник к концу истории понимает, что нужно больше любить, убийца кается, предатель падает на колени перед королем. Только такой рассказ и есть настоящий рассказ.
— Все остальное — правда, — сказал я с улыбкой.
Новак раскурил трубку, это был хороший вирджинский табак, который я покупал себе, но угощал и его. Он посмотрел на меня такими глазами, словно курил гашиш.
— Но почему я не могу рассказать хорошую любовную историю, если я бывал влюблен?
— Это вопрос, хозяин. Быть влюбленным — что это значит? Вы когда-нибудь готовы были отдать себя любимой женщине всего, целиком, без раздумий, без капли страха? Вы когда-нибудь могли поверить в любовь без вашей любимой защиты — иронии?
— Нет, конечно, ведь любая женщина смертна.
— Я это понимаю, хозяин, так думает каждый: я один бессмертен, а все другие преходящи и конечны, и в этом-то и кроется причина нашей сдержанности. Не смейтесь, хозяин, это печально.
— И дальше? — спросил я.
— И дальше, плохой рассказчик не умеет заканчивать историю. Даже если он умеет ее завязать, развязать у него не получается. У плохого рассказа нет конца, по этому признаку можно узнать бездарного рассказчика.
— Да ты просто Аристотель!
— Я, может, и получше его. От него я много узнал о некоторых вещах. Знаю, что завязка равна вопросу, а развязка ответу. Любой умеет спрашивать, но мало кто умеет отвечать, чтобы ответить, надо стать лучше. Я всегда думаю, что вам все безразлично. Вы никогда ничему не научитесь. Поэтому вы дьявол.
— Теперь ясно, — сказал я.
А он не сказал ничего, только попыхивал вирджинским табаком и смотрел в землю, себе под ноги. Я тоже раскурил трубку, и теперь мы курили вместе.
6.
Граф Шметау объявил, что обед закончен. Сделал он это как-то странно, без присущей ему помпезности, скромно, совсем не в своей манере. И тогда я впервые поняла величие скромности. А Шметау страдал манией величия, вы и сами могли это заметить, его представления о собственной важности были просто неописуемы и не исчерпывались только тем, что граф Марули, несомненно, его покровитель, придет на смену моему мужу, а совершенно необъяснимым для меня образом касались и положения Шметау, которое в тот момент было иным, более высоким, чем наше. Но сам Шметау тогда еще этого знать не мог.
Как бы то ни было, обед закончился, Радецки встал первым, слегка поклонился всем и объявил о решении, что именно он будет тем, кто проведет эту ночь на мельнице.
Тот его поклон, я поняла это позже, знаменовал собой начало второго акта. Тогда нашу судьбу начали понемногу мять руки невидимого ваятеля, по каким-то неведомым нам причинам к нам не расположенного. Но в те послеобеденные часы на вид все было как прежде и напоминало, в худшем случае, неотрепетированную сцену из плохой драмы. Мы было собрались слегка вздремнуть после обеда, все утомились, но дни уже стали короткими и получилось, что на самом деле мы отправились спать до утра. Я была уверена, что утро будет таким же, как и все предыдущие. И не ждала от очередной утренней зари ничего, кроме того, что приносит каждая заря, — дела вместо мыслей и уверенность вместо сомнений. По крайней мере, я так думала. Другие, возможно, думали иначе. Я хочу сказать, что некоторые из нас были действительно готовы к встрече с вампирами.
Всю жизнь мы учимся обнаруживать ложь, приподнимать ее и под ней искать и находить правду. Когда же в конце концов лицом к лицу встречаемся с правдой, то чувствуем беспомощность. Потому что во лжи всегда есть какой-то смысл, а в правде — нет. Я встречи с вампирами не ждала.
7.
— Не знаю, почему ты так строг ко мне. Начнем с того, что рассказчик я хороший. Всегда изложу, кто что сказал, даже Беззубый, передам все, что было и как было. Правда, иногда я забегаю вперед, так сказать, опережаю события, иногда опаздываю, но все это только для того, чтобы было занятнее, чтобы можно было наслаждаться рассказом.
— Да ладно вам. Все, что вы рассказываете, имеет одну цель: показать, какой вы умный, умнее всех. Не припомню ни одной вашей истории, в которой последнее слово осталось бы за Христом.
— Разумеется, это было бы бессмысленно. Неужели хоть кто-нибудь может поверить в плохие предсказания, угрозы, резкие изменения, призывы, вдохновение? Ведь именно это рассказывает и проповедует Беззубый. А я тебе говорю, что герой может только надеяться на какой-нибудь совсем незначительный успех, глупое просветление, жалкое обогащение. Я тебе так скажу, даже этого ему много.
— Но…
— Хороший рассказчик перед важным событием замедляет темп, а потом изумляет одуревшего от философских рассуждений читателя неожиданностью. Изумление следует за скукой. А дальше неожиданность за неожиданностью. Это блестящий иронический поворот. Уверяю тебя, ирония не от сего мира. Вот такой я рассказчик.
8.
Мы следовали за Радецким, отстав от него на несколько шагов. Он держался прямо и выглядел храбрецом. Вскоре мы уже стояли перед водяной мельницей. Здесь было мрачно в любое время дня и в любое время года. Колесо оказалось черным, огромным и прогнившим. Сама постройка выглядела как лачуга со стенами из камыша, обмазанного глиной.
Клаус Радецки сбросил пелерину и камзол, оставшись в одной только белой рубашке. Он закатал рукава, словно его ждала какая-то работа. И сказал, что увидимся завтра.
Потом вошел в дверь и закрыл ее за собой. Мы стояли и молча смотрели. Больше ничего не происходило, но чувствовала я себя неприятно. Прошло некоторое время, мы стояли по-прежнему молча, потом, наконец, заговорили. Тут-то я и заметила крестьян, которые вместе с нами наблюдали за тем, как Радецки заходил на мельницу. Что ж, в конце концов, именно для них и было все это исполнено. Так я тогда думала.
Несмотря на то что мы были заняты разговором, никто не сводил глаз с мельницы. Простояли мы долго, беседа начала угасать. И, наконец, совсем прекратилась. Воцарилась тишина, но ненадолго. Вскоре послышался храп. Из мельницы. Храпел Радецки, который крепко заснул, по-видимому, утомленный бессонной ночью, проведенной на маскараде.
9.
Когда мы добрались до Дедейского Села, уже смеркалось. Барон Шмидлин распорядился накрыть столы прямо под открытым небом, нам подали отвратительную китайскую еду, потом мы читали отвратительные пророчества, запрятанные в отвратительных пирожных. Ничто меня не разуверит в том, что граф Шметау не сам лично написал эти пророчества (этот парень знает китайский) и не подсунул каждому из нас именно то, которое посчитал подходящим или, как ему представлялось, описывающим нашу судьбу самым лучшим способом. Я с нетерпением ждал официального окончания этого обеда. А закончился он совершенно неофициально, тем, что граф Шметау пролил вино себе на панталоны и был вынужден удалиться. Сразу за ним встал и Радецки, сославшись на то, что ему нужно подготовиться к ночи на мельнице. Мне показалось, что все чувствуют себя довольно неприятно, вероятно, из-за китайских пирожных. И все стали по одному вставать из-за стола и уходить, остались только герцогиня и барон Шмизлин[6], они болтали и смеялись, она кокетливо, а он как курица.