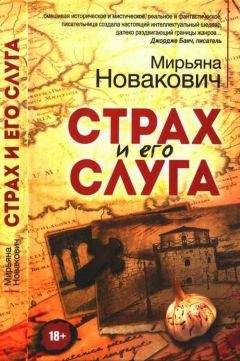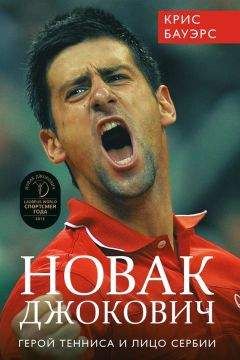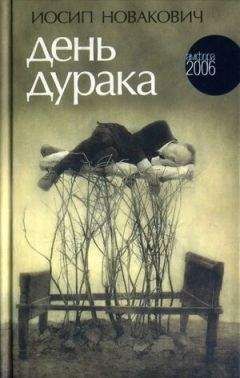Когда мы добрались до Дедейского Села, уже смеркалось. Барон Шмидлин распорядился накрыть столы прямо под открытым небом, нам подали отвратительную китайскую еду, потом мы читали отвратительные пророчества, запрятанные в отвратительных пирожных. Ничто меня не разуверит в том, что граф Шметау не сам лично написал эти пророчества (этот парень знает китайский) и не подсунул каждому из нас именно то, которое посчитал подходящим или, как ему представлялось, описывающим нашу судьбу самым лучшим способом. Я с нетерпением ждал официального окончания этого обеда. А закончился он совершенно неофициально, тем, что граф Шметау пролил вино себе на панталоны и был вынужден удалиться. Сразу за ним встал и Радецки, сославшись на то, что ему нужно подготовиться к ночи на мельнице. Мне показалось, что все чувствуют себя довольно неприятно, вероятно, из-за китайских пирожных. И все стали по одному вставать из-за стола и уходить, остались только герцогиня и барон Шмизлин[6], они болтали и смеялись, она кокетливо, а он как курица.
Очень быстро Радецки появился снова, стремительный и отважный. Шмизлин тут же встал, отвесил герцогине глубокий поклон и сделал Радецкому учтивый знак рукой, предлагая отправиться на мельницу. Радецки стоял в некотором смущении, он не знал, куда идти, то есть он знал, что идти нужно на мельницу, но не знал к ней дорогу. Радецки получил воспитание в Вене, поэтому и он сделал не менее учтивый знак Шмизлину, чтобы тот шел впереди. Барон Шмизлин тоже был сыном венской культуры, так что он повторил свой жест, означавший, что он уступает Радецкому честь идти первым. Тут уж Радецки отступил от правил хорошего тона, из чего можно было понять, что он не столь спокоен, как старался выглядеть, и крикнул:
— Не знаю, где это!
— Ах, извините, — процедил сквозь зубы Шмизлин и слегка поклонился Радецкому. После чего направился вперед, довольно нерешительно.
Мельница находилась неподалеку. Шагах, может быть, в двухстах от стола, за которым мы обедали. Радецки сбросил редингот и остался в одной белой рубашке. Подвернул рукава и, не обернувшись, чтобы посмотреть на нас, вошел внутрь. Я заметил, что крестьяне, которые были рядом с нами, наблюдали за происходящим не шелохнувшись. Мы стояли, переговариваясь, на том же месте. Я молчал. И искал взглядом место, где спрятаться этой ночью, чтобы посмотреть, что будет происходить на мельнице. У меня не было никакой уверенности в сербах и в том парне из Пожареваца, а, кроме того, я вовсе не был уверен в том, что вампиры действительно не существуют.
Шагах в пятидесяти от мельницы был большой полузасохший дуб с двумя огромными нижними ветками, расходившимися в разные стороны и покрытыми густой листвой. Я решил ночью забраться на одну из них и под прикрытием кроны наблюдать за развитием событий. Для этого мне сначала следовало вместе со всеми вернуться в избу, которая была выделена нам для ночлега, а потом незаметно выбраться из нее. И нужно было сделать это до полуночи, потому что, как объяснил мне Новак, именно полночь, самое глухое время ночи, считается у крестьян излюбленным временем появления вампиров.
Пока я все это обдумывал, разговоры вокруг постепенно смолкли и воцарилась тишина, такая тихая, какая бывает в аду.
И тут мы услышали храп. Видимо, усталость Радецкого победила страх. Или же он притворялся, подумал вдруг я, и затеял игру, чтобы обмануть крестьян, а, может, и нас, и показать, что никакой опасности нет.
Кто-то произнес:
— Радецки заснул!
Глава четвертая
Венские договоренности
1.
И больше никогда не проснулся.
Но вам, разумеется, это известно. Будь это не так, не было бы и этого вашего запоздавшего расследования.
Не знаю, почему он так сразу заснул. Между прочим, это мог быть и не его храп, может быть, храпел кто-то другой, где-нибудь за мельницей, кто-то, кто хотел, чтобы слышался храп. Не забывайте и о том, что Вука Исаковича нигде поблизости не было.
Я никого не обвиняю, я просто рассказываю, как было дело.
Возможно, загадочный компонент китайского рецепта стал для Радецкого ядом. Ядом достаточно сильным, чтобы усыпить его вскоре после обеда, и достаточно слабым, чтобы не убить его сразу на месте, за столом. Как бы то ни было, храп был воспринят нами как непредусмотренный знак покинуть то место. Мы направились к хижине. У меня начиналась тошнота при одной только мысли о том, какая вонь и нищета ждут меня там. Поэтому я не спешила. Шла, то и дело оглядываясь назад. И заметила, что крестьяне начали расходиться.
Я думала о том, каким храбрым оказался Радецки. И о том, что его храп наверняка понравился бы моему мужу. Александр презирал всякую сдержанность. Он стремился и требовал, а если этого не было, то ловко устраивал так, чтобы все в его жизни было до крайности волнующим, прекрасным, храбрым, сильным или даже бессмысленным. Для него не существовало промежуточных состояний ни в месте, ни во времени, он всегда находился в одной из крайних точек: в восхищении или в глубочайшем отчаянии. Мой муж любил говорить, что искусство придумано для трусов. В то время я им восхищалась, и поэтому мне ни на миг не пришла в голову мысль, что Радецки — глупец.
Мы уже почти дошли до хижины, когда ко мне обратился граф Шметау. Я была рада поговорить с кем угодно, потому что это оттягивало момент, когда я переступлю порог хижины.
— Попробуйте представить себе, — сказал граф Шметау, — непобежденную армию, во главе которой, сидя в седле, движется Доксат, как она поднимается по Сербии, задевая своим хвостом Австрию. И чем ближе ее голова к Белграду, тем больше турецкой земли остается за хвостом. За армией следует целый Дунай беженцев и целая Сава турецких шпионов. И все это уже на один день пути приблизилось к Белграду. А в это время голова предательского заговора находится в городе и ждет, когда до нее дотянется рука.
— Что вы хотите этим сказать? — спросила я.
— Я хочу сказать только то, что сказал, и не более того. Вы не знаете того, что знаю я. Но вам следовало бы знать. Знать все: и как готовилось предательство, и как была вырыта эта проклятая цистерна — по личному приказу и плану Доксата и с одобрения вашего мужа, и как все было подготовлено к последнему акту — сдаче Ниша, а за ним и Белграда. Но я вам заявляю, пока я жив, я буду бороться против этого.
Я ничего ему не ответила. Я и сейчас не знаю, что тут можно было бы сказать.
Но, разумеется, мы все чувствовали одно и то же, мы все знали, что армия и беженцы приближаются к городу. Мы даже прикидывали, сколько дней им потребуется, чтобы оказаться здесь. Семь дней, считали барон Шмидлин и фон Хаусбург. Граф Шметау сказал, что пять. Все высказались в том смысле, что это невозможно. От Ниша до Белграда тридцать миль[7], из этого следует, что людям нужно преодолевать по шесть миль в день, чтобы добраться за такой срок. Людям с детьми, стариками и больными. Людям с узлами скарба. Людям, не имеющим никакого желания идти куда бы то ни было только из-за того, что им это приказано, а приказано им это только для того, чтобы был выполнен договор между Доксатом и турками.
2.
Ночь освещала полная луна.
В комнате, где спали мужчины, окон не было, лишь тлеющие на огнище дрова окрашивали красным цветом наши лица и очертания предметов. Если бы в аду начал догорать огонь, это выглядело бы так же. Мне казалось, что придется ждать несколько часов, пока все заснут, и я смогу выскользнуть из дома. Но вчерашний маскарад и сегодняшний поздний обед сделали свое дело. Я тоже уснул.
Когда я проснулся, огонь совсем погас. Я постарался неслышно сесть. Некоторое время сидел неподвижно, чтобы глаза привыкли к темноте. А так как лунный свет местами пробивался через дыры и трещины в крыше и стенах, вскоре я стал различать тела спящих. Я пересчитал их, на всякий случай. Их было три, не считая меня, из чего следовало, что кого-то одного нет. Новак, ясно, был с остальными слугами.
Я медленно и тихо встал и рассмотрел того, что лежал ко мне ближе других. Это был блондин из комиссии. Рядом с ним спал рыжеволосый. Сделав два больших шага, я очутился возле того, кто оставался пока неопознанным. Спал он на животе. И только я наклонился, чтобы получше его рассмотреть, как он заворочался. Я тут же выпрямился и отступил, побоявшись разбудить его. Когда он успокоился, я снова приблизился. Склонившись, я почти что коснулся его уха. Задержал дыхание. Он снова завозился. Я снова отступил. Он накрылся с головой. Может, даже он и не спал. Может, это был Шметау. А может, Шмизлин. Я оставил его и двинулся к двери, точнее, к тому, что заменяло дверь. Когда я вышел, лунный свет на мгновение ослепил меня. Отойдя от лачуги на достаточное расстояние, я раскурил трубку. Это меня успокоило.
Сориентировался я на удивление быстро и вскоре добрался до дуба. Взобраться на него оказалось не так просто, и я чуть не упал, когда подо мной подломилась сухая ветка. Треснула она довольно громко, и я, ухватившись руками за две других ветки, на некоторое время повис, не пытаясь снова найти точку опоры. Так меня, по крайней мере, не было слышно. Только когда у меня заболели руки, я раскачался и сумел перебраться на живую зеленую ветку. Этот успех, видимо, придал мне уверенности в себе, я неожиданно ловко полез вверх и остановился намного выше, в надежном месте, где было удобное ответвление.