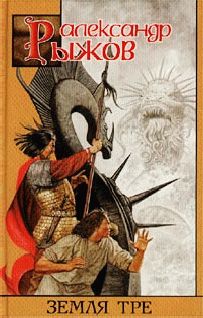Зима, старая ключница, заперла все дороги любителю дальних пеших прогулок, но есть еще другие ключи — вот в чем соль; щелчок — и все навесы спадают, духовое и медное воинство ломится, лучники звенят тетивой, и пространство свободно, дрожит горизонтами.
Но вот идешь на почту вечером — и никаких ключей уже не надо, выси громоздятся звездами.
Зимой космос ближе. И жизнь сильней.
Легко представить Землю. И, конечно, смерть. Она рядом, за оболочкой скафандра.
Первая часть зимы — сумбур вместо музыки, прерывистое дыхание.
Вторая — мощно раскатиста.
Третья — горит февральской флорентийской синевой, сияет световыми полями, вены под снегом взбухают.
И кода: дребезжание оконного стекла, бормотание.
Фанатик знаетПассаж Ницше в «Утренней заре» о фанатиках вдруг бросает резкий свет на недавние события: «Фанатик… знает отрицаемое так же хорошо, как самого себя, по той простой причине, что он вышел оттуда, там его дом, втайне он постоянно боится вернуться туда, именно своим отрицанием он хочет сделать возвращение невозможным». Кавказ и азиатские республики — тени СССР: авторитаризм там жив и ярок. Плюс бедность. Наши фанатики слишком молоды, чтобы знать советский морок? Ну, призрак бедности бродит и по московским дворам; авторитаризм то и дело являет себя во плоти, скалится улыбкой; и отцы доходчиво объясняют недавнее прошлое.
Да зачем далеко ходить. Стоит сесть в электричку и заехать в какой-нибудь углубленный районный городишко — и это будет путешествием во времени, назад.
Фанатик хочет жить только будущим.
В лесу людейВ Москве на эскалаторе пришла простая мысль: свободным можно быть именно здесь или в безмолвном лесу, как называли отцы-пустынники места своего уединения. Наверное, жителям столицы эта мысль покажется странной, — это они-то свободны? замотанные скоростями, ценами, гонкой, платежами, — но мне, нищему литератору, выбравшемуся на пару дней из своего Старого города, это было очевидно. И вспомнилось, что созерцатели прошлых столетий пребывание в большом городе называли большим уединением, а в лесной хижине или горной пещере — малым. Поначалу мне казалось, что они имеют в виду только большие трудности: попробуй практиковать безмолвие в Багдаде или Царьграде. Но в Москве на эскалаторе, в потоке лиц и шуме электропоездов мне неожиданно открылся иной смысл умозаключений древних: в этом водовороте ты просто незаметен. Людей, самых разнообразных лиц, так много, что ты начинаешь чувствовать блаженную свободу. Ну, собственно, известное: в толпе легко затеряться. Но не только это. Среди людской пестроты, речей, жестов, улыбок ты чувствуешь, как та, что следует за тобой тенью, делается эфемерной. Бессмертие каждого таится в другом. Притяжение земли здесь ослабевает. А земля всегда напоминает нам о предках и смерти.
Много ли в Москве лиц иных градов и весей? Для азиатско-европейской столицы — мало, по крайней мере, в Париже их больше, да, наверное, и в других столицах, где я еще не бывал.
Вечернее солнце на московских крышах неизбежно наводит воспоминание о сверхгерое Булгакова, он навсегда застолбил место на вечерних крышах.
Тут же — лыко в строку — книжное. Дом книги — неприступная цитадель для скромного жителя Старого города. Я искал — давно уже — Пола Боулза, прочитал несколько рассказов в интернете, но больше ничего выудить не удалось. На мониторе набрал его имя, мне выдали номер полки, пошел, смотрю: есть! Роман «Дом паука», сборник рассказов и последний его роман, экранизированный Бертолуччи, «Вверху над миром». «Дом паука» — 360 р. Остальные — по 260. Дхармы мои взволновались. Нет, нет, решил я, перебирая драхмы, надо поискать место менее губительное для них, и вынырнул из сетей этого Дома. На улице мы с женой утолили жар мороженым и двинулись дальше.
«Библио-Глобус». Поразительно! Еще пару лет назад там была давка, как в Сбербанке времен отмены нулей на дензнаках. А сейчас ничего подобного. Можно прогуливаться, как в краеведческом музее где-нибудь… да у нас в Старом городе. Или на выставке местной художницы-вышивальщицы. Пожалуйста, ходи, рассматривай раритеты, можешь их даже потрогать, полистать, почитать даже страницу-другую. Вкрадчивый голос книжного диспетчера, так сказать, вещает о каких-то встречах с гуру столичного значения, о каких-то докторах, которые помогут вам избавиться от лишнего веса и т. д. И порою казалось, что мы где-то в медцентре. Нет, это был книжный. Диспетчер называл и каких-то поэтов и знаменитых писателей. К сожалению, мы о них ничего не слышали в своем Старом городе, а так бы непременно задержались в Москве, чтобы поглазеть на них и получить автограф… Был найден и Пол Боулз. Дороже, чем в Доме книги, на десятку. Ну, не возвращаться же? Я купил «Вверху над миром», книжку тоненькую, изданную в Твери тиражом 1 тысяча экз. Прочитаю — сообщу подробности.
В заключение мы постояли на шишке нашего скифско-гиперборейского мира — на брусчатке Кр. площади. И поехали в свое уединение среднего порядка, в Старый город.
Нет, что бы там ни говорил Лимонов с Гаспаровым, а в Москве есть свобода, по крайней мере — секундная, на эскалаторе. И если бы я перебрался в Москву, то проводил бы все время именно на этой колдовской лестнице, созерцая поток лиц, а-ля Сиддхартха-паромщик на великой реке. Ну, иногда заглядывал бы в Дом Паука прочесть пару страниц какой-нибудь умной книги. И в конце концов взрастил бы свой безмолвный лес.
…а столицы преходящиПонимаю, что это как-то противоречит моей записи о Москве с ее раскованностью… Но всегда помню Пушкина, говорившего: Петербург — передняя, Москва — девичья, а деревня — кабинет. А вот Блока с его поганой, гугнивой чушкой подзабыл. Но свежие журналы напоминают. Чернильная братия любит, по моим наблюдениям, приводить эту цитату из письма Блока: «слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия <меня>, как чушка своего поросенка». С вариациями. Например, «поганая, гугнивая матушка-провинция». Ну, что сказать? У каждого свои предпочтения в выборе цитат. И своя провинция.
Но полезно было бы помнить, что преходящи не только империи, но и столицы.
Ортодокс бунтующийВпервые Пол Боулз появился в России в 1985, в самиздатском тогда «Митином журнале» — в образе «Гиены». Так называется рассказ. То, что по ходу повествования происходит аватаризация (неологизм, от «аватара — в мифологии индуизма понятие, обозначающее феномен нисхождения божеств (Вишну, Шивы и др.) на землю и воплощения их как в людей, так и в других смертных существ») рассказчика — сначала в аиста-простака, а затем в мудрую, хитрую и коварную гиену, заманивающую птицу в пещерку и там ее пожирающую, ясно как божий день. Любой писатель проделывает тот же трюк: ударяется о стол, монитор компьютера или что там перед ним, и оборачивается лебедем или красной девой, летит, рукавами машет.
Обычный шаманизм писательской повседневности. Шаману-писателю приходится воплощаться и в самых отъявленных мерзавцев, в смердяковых и иже с ними. Или вешать топор в петлю на отвороте пальто. Но аватаризация Пола Боулза в этом рассказе вызывает все-таки легкую оторопь. «Затем она сожрала то, что хотела сожрать и вышла на широкую плиту, прикрывавшую вход сверху. Там, под луной, постояв некоторое время, она выблевала то, что сожрала, а после, полизав блевотину, принялась кататься в ней, втирая ее в шкуру». В другом рассказе аватара писателя — змея, ужалившая ребенка. Эти образы столь суггестивны, что у читателя пробегает холодок по спине. Он и сам начинает видеть мир глазами змеи, вот в чем штука. Завет Льва Толстого о вчувствовании Пол Боулз исполняет виртуозно: он заражает нас своими аватарами. И впечатлительным натурам его рассказы лучше не читать. Гиены, явившиеся из миражей танжерского отшельника (в марроканском Танжере американец Боулз провел большую часть жизни), будут преследовать по ночам.
Но сейчас хотелось бы поделиться кое-какими соображениями по поводу романа, который сам автор считал лучшей своей вещью. Называется он «Вверху над миром».
Спешу успокоить. Здесь никаких гиен и змей и шокирующих подробностей. Размеренное повествование о путешествии семейной пары — доктора Тейлора Слейда и его жены Дэй в Центральную Америку, о плавании на корабле, знакомстве с пассажиркой миссис Рейнментл…
Ничего особенного. Чемоданы, кофе, пароходные гудки. «За окном утренний туман капал с одного бананового листа на другой». Правда, сразу возникает и какая-то раздражающая нота. Что-то неясное появляется в воздухе, некое дуновение. Это происходит незаметно; только потом, вернувшись к тексту, начинаешь понимать, что с первой же страницы автор подавал знаки: «Часы над буфетом тикали быстро и громко». Медлительные капли тумана и быстрый ход часов и создают тот зазор, в который проникает неприятная ледяная струйка дыхания неизвестного. «— Только не нервничай, — сказал он, зевая». В этой реплике — вся стратегия боулзовского письма. Текст зевает, а мы потихоньку начинаем нервничать. Это и создает нужный тонус, постоянно подпитываемый искрой, сверкающей между разными полюсами.