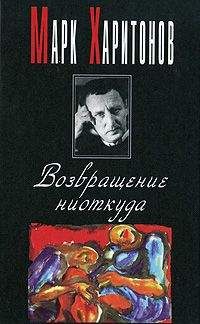Кто-то входил к нам в квартиру, неизвестно зачем, только потому, что двери стояли открытыми. Вот сосед Христофоров, художник со встрепанной бородой, став у дверной притолоки, водит перед собой по воздуху невидимым карандашом, зарисовывает для памяти портреты, чтобы потом воспроизвести их на упаковочном картоне вонючими самодельными красками. Заглядывают мимоходом, из любопытства, оставляют для присмотра детей; компания молодежи пристраивалась на подоконнике, пробуя гитару, группа любознательных сблизила головы над семейным альбомом в плюшевом переплете цвета детства.
Генеральша держит в руках литровую банку с извлеченным из нашего буфета вишневым вареньем.
— Это вы, что ли?
— Она.
— Не похоже.
— Нет, узнать можно.
— А это он.
— Молодой, а уже лысый.
— Лысый, а смотри какую отхватил.
— А это вон сынок.
— Ишь, головастик, с глазищами.
— А вот смотри, как вырос.
— Вырос, да что толку.
— А варенье-то у вас, между прочим, засахарилось. Вы на стакан сколько кладете?
— Дайте-ка попробовать.
— Кстати, сегодня сахар завезти обещали. Хотите, за вас постою?
— Конечно, не самой же ходить.
— Тем более в такой день.
— Вы не чинитесь, мы по-соседски, по-свойски.
— Так хоть сойдемся поближе. А то уж слишком вы себя поставили. Как будто другие не люди.
— А это кто, ваша мать?
— Какая мать? В таком платье! Небось, бабушка.
— Ишь, барыня.
— Ну, не все нос задирать.
Папа и мама на стульях с прямыми спинками — король с королевой — не рядом, а в разных углах комнаты, как будто и теперь все еще самым главным для них было не проявить никаких чувств перед чужими, не нарушить непонятного здешнего ритуала, ну разве что помочь — из привычной добросовестности:
— Что вы все-таки ищете? Вы лучше скажите, чем переворачивать все.
(Безнадежная попытка ума совладать с чем-то, что совершается по другим законам).
— Пока не нашли, откуда нам знать.
— Вещественные доказательства.
— Предметы роскоши. Золото, серебро.
— Золота у меня нет, — (голос мамы едва ли не виноватый; честность не позволяет ей остановиться). — А серебро… не знаю… Пара ложечек осталась, семейных.
— Да много нам и не надо. Мы ж не хапуги.
— Мы на службе.
— Мы против вас ничего не имеем.
— У нас служба такая…
(На синем шелку ложка с кромкой, за долгие годы объеденной, облизанной моими губами, когда я пил из нее лекарство; она еще пахнет им. Мама держит открытую коробку, точно портсигар с предложением угощаться. Непослушные обкуренные пальцы с достоинством берут по одной).
— Между прочим, вам адвокат понадобится, писать кассацию, могу порекомендовать, — наклонилась над маминым ухом Генеральша. Она сразу в обоих своих халатах, лиловый поверх зеленого, но в вырезе все равно проглядывают кружева комбинации. — Кандидат наук, а денег берет не больше других. Другие с вас только зря тянуть станут, а тут по-соседски.
— Почему кассацию? — встрепенулась мама: она еще пробует сопротивляться. — Еще ведь никакого приговора не было… даже суда.
— Да что вы, в самом деле! Точно с луны свалились. — Актиния на подбородке шевельнула белесыми щупальцами. — Какой вам еще суд?
(Стол уже накрыт зеленым, на столе вазочка с цветами. «С собственного участка. Ради такого случая». Стулья для зрителей принесены от соседей, а те, кто больше, чем зрители, по обычаю занимают скамью, на которой они всегда сидели перед подъездом, встречая и провожая нас взглядами, и теперь смотрят, поджав губы, впрочем, готовые и к снисхождению, переговариваются, обсуждая, может быть, заранее известный приговор…)
— Но мне еще даже не сказали, в чем меня обвиняют, — очнулся, наконец, и папа — или, наоборот, понял, что очнуться не удастся. И тут же почувствовал, что сморозил не то. В воздухе проносится ропот не то что неодобрения — непонимания.
— Он, значит, считает, что не виноват ни в чем.
— Что значит ни в чем? — пробует объясниться папа голосом заранее обреченного человека — не перед ними, перед кем-то неявным. — Я мог ошибиться… но без худого умысла, уверяю вас.
— Это все говорят.
— Кого ни спросишь, все ни при чем. А жрать скоро станет нечего.
— Штукатурка на головы сыпется.
— Бумагу, и то теперь нормально не сдашь.
— Всяким жучкам доплачивай.
— Талонов взять негде.
— А они, видите ли, ни при чем.
— То хоть надежда была.
(Проникает в череп помимо ушей, губы не шевелятся.)
— Я не понимаю. Не понимаю, — папа защищается уже последним усилием. Ресницы слипаются все сильней, все труднее держать глаза открытыми. — Может, и виноват. Но не в том, о чем вы говорите. И во всяком случае, без всякой корысти.
— Да, уж это мы видим.
— Это уже другой разговор.
— Холодильник пустой, а рояль поставили.
— Варенья сварить не умеют, а перед людьми гордятся.
— Телевизора сыну не купят, а говорят, что живут.
— Да вы хоть знаете, что такое жить по-человечески?
— Вы хоть однажды сидели за настоящим столом?
— Вы ели хоть раз в жизни устриц?
— Или трюфеля?
— Или черепаховый суп?
— Да вы, небось, и за границей ни разу не были?
— Небось, и Парфюмона не видели?
— А вы знаете, как будет суд по-древнегречески?
— Человек, который ни разу не бывал за границей, не может считаться цивилизованным человеком.
— И не ел устриц.
— Человек, который не видел Парфюмон, не может вообще считаться.
— Тем более черепаховый суп.
— Если так вникнуть — разве это была жизнь?
— Считайте, что и не жили.
— Но как же это… — лицо папы страдальчески напряжено.
— Можете, конечно, упорствовать. Ваше право. Но у вас, между прочим, есть еще сын. Подумайте про него. Какую жизнь вы оставляете ему?
— Какую страну?
— Какую квартиру?
Опущенная голова, ресницы слеплены гноем.
— Это я и сам себе говорю.
— Ну вот и слава Богу.
— Хоть не упорствуете.
— Наконец-то.
— Суд учтет ваше чистосердечное раскаяние.
(А я среди всех, как один из свидетелей — обвинения или защиты? Надо вмешаться, надо что-то сказать, но голос застрял безнадежно, постыдно. Мимо уже выносят зрительские скамьи и домашние стулья, двое служителей описывают скудные наши предметы, запихивают в намокшие мешки.)
— Пишущую машинку не забудь. Или это считается орудие труда?
— Какое орудие?
— Может, пишет что.
— Писатели! Раньше гусиным пером писали, и получалось не хуже.
Лишь пианино засопротивлялось выносу. Его пробовали развернуть и так, и этак, но оно, кряхтя, упиралось одновременно в стену и в дверной косяк — непонятно казалось, как его сюда внесли; пришлось его, наконец оставить в покое, только заклеить крышку бумагой с печатью и двумя красными пломбами, вызывавшими мысль о кляпе. Молодые люди на подоконнике все пели свое под гитару вполголоса, двое обнимались — жизнь в доме шла своим чередом. Две незнакомых женщины, деловито шушукаясь в углу, обмеривали зачем-то в комнате плинтус портновским метром. Одна оглянулась на маму, встретилась с ней взглядом и, как школьница, спрятала метр за спину.
— Ну, чего стоишь? — по-свойски подтолкнул отца в плечо инвалид-служитель. — Пока время есть. Последнее, можно сказать, свидание. Последнее слово. Подойди попрощаться. Это можно.
Мама еще держится, еще стоит прямо, все силы требуются ей теперь на то, чтобы напрячь спину, чтоб не прорвался вопль; с этого дня она будет держаться, как никогда — ни признака того, что могло бы показаться неблагополучием не просто телесным. Папины губы шевелятся безмолвно — или я в ту минуту оглох? Что он сказал перед уходом? Что он мог сказать?
Мы жили.
Вниз по ступенькам. Все глубже, все глубже. Полоски пижамы теряют цвет, очертания расплываются в чем-то прозрачном, как слезы, туманящие глаза.
16. Сон о надежде и безопасности
Оказывается, можно привыкнуть и к этому. Считаешь срок чьего-то отсутствия в близкой жизни, не представляя, как надолго может он растянуться в действительности, отгоняя пустые мысли о безвозвратном и непоправимом. Можно ведь уехать и навсегда, без надежды увидеться снова, можно и наоборот, считать смерть отсутствием, особенно если она ничем не удостоверена. То есть разница даже не в надежде, не в возможности возвращения? В чем же тогда? Почему ты все не можешь разрешить каких-то простых мыслей? Скажем, так: человек остается жив, пока мы о нем думаем, как о живом, пока от него, например, могут приходить вести. Но ведь если даже и не приходят — это тоже еще ничего не значит.
Это, как прежде, называлось жизнью. Мы наведывались каждый день в местную почтовую контору справиться насчет писем. Там пахло сургучом, пылью и кипяченой водой. Полузнакомая соседка допивала чай из эмалированной кружки с картинкой мухомора, отхлебывала еще раз, потом наконец ставила кружку на барьер, соглашаясь уделить нам внимание. Пристально, с брезгливым видом изучала документы обоих, каждый раз с одинаковой тщательностью сверяла лица с фотографией, как будто успела нас со вчерашнего дня забыть, каждый раз подозрительно интересовалась, почему на моей фотографии лицо без бороды, хотя у меня бородка, а, выслушав объяснения и никуда больше не заглядывая, отвечала, что писем нет. Мы возвращались под дождем, с одним зонтиком на двоих: мама в библиотеку, где на полках все больше оказывалось переплетов с выпотрошенными или подмененными внутренностями (злоумышленников ни разу не удалось уличить, мама ждала неизбежной грозы, но никто из читателей пока ничего не замечал; впрочем, и читатели почти не появлялись); я шел домой, где у меня уже не было пишущей машинки, да и некому было теперь приносить мне бумаги в перепечатку. Бумага вообще становилась исчезающей ценностью. На случайных клочках, на пустых полях и оборотах, никому не понятным почерком и непонятно для кого — просто чтобы дать выход чему-то, что подступало изнутри, как тошнота, и не просто к горлу, а дальше, к мозгам головы, — я записывал обрывки фраз, звучавших то жалобно, то вопросительно, однако остававшихся без ответа и не складывавшихся в сюжет.