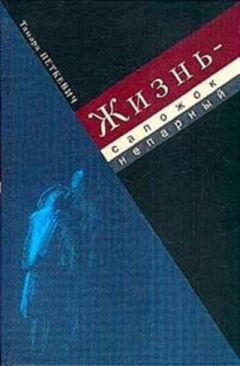И сама я сплоховала. Один парень знакомый, они с Васькой Трефиловым в одной комнате живут, к Катьке часто ходят — просят галстуки завязать, — этот парень спросил: «Ну, хорошо! Где Туркестан, нам приблизительно известно. А сколько у капитана звезд на погонах?» Я помнила, что много, и говорю: «Пять!» А он — хохотать, за бока хвататься. «Пять звездочек, — говорит, — Наташа, это только на коньяке. Ну, может быть, у маршала Франции». Ой-ой-ой! Поймали меня. Не лги! Что делать? С кем посоветоваться? Кому открыться?
И бригадир наш, Вера Поликарповна, в больнице лежит, шепотом передавали: рак у нее, неоперабельный, запустила, не встанет. И откуда такие слухи сочатся? Побежала я к ней в больницу, увидела тень… нет-нет, не тень на ее лице, а нечто такое, перед чем все мои неприятности съежились и показались мне сущим вздором, да так и ушла, ничего ей не рассказавши. Вера Поликарповна не меня, она дочь свою единственную ждала, а той некогда мать проведать, летняя сессия у нее, студентка… А дома, в общежитии, меня ждал сюрприз. Там-то и открылась Катькина тайна.
Вхожу, а посреди комнаты, на стуле, высоко поддернув брюки, пожилой дядька сидит. Я знала, что работает он в модельном цехе, где дерево, хромой. На коленях у него шары воздушные, туго надутые, скрипят тихонько — красный, зеленый, голубой. И видно, что сидит он долго. Я — к Андрейке первым делом, конечно. Катька вскочила и говорит покраснев: «А вот и мама номер один. Настоящая». У гостя брови на лоб: «А вы?!» — «А я, стало быть, номер два! — Катька дерзко. — Иной раз обязанности исполняю!» Подал мне гость веснушчатую ладонь дощечкой и говорит: «Моя фамилия Егудкин. Очень приятно познакомиться. Пришел сделать вам интересное предложение, но тут путаница…» На Катьку покосился с укоризной, а ей хоть бы хны!
Оказалось, дом у него свой, неподалеку от завода, прослышал он про мои затруднения — от кого бы это, интересно знать? — и явился звать меня жить к себе. Бесплатно. На чью роль? Сестры, дочери… нет, не знаю! Отказалась я наотрез. Ухромал он несолоно хлебавши. И шары оставил. А поздно вечером произошел у нас с Катькой такой разговор. Катька мне: «Зря отказалась, дурочка! Он мне понравился. Живут же люди на частных квартирах. А тут и платить не надо!» — «В том-то и дело, — говорю. — А что ему надо?» Катька фыркнула: «Ерунда! Он же старый! А ты… чистоплюйка ты, больше никто!» — «У меня свои взгляды». Тут Катька даже присвистнула, будто мальчишка-хулиган: «У тебя? Взгля-ады? Человек к тебе всей душой, а ты морду в сторону воротишь! Всех заслуг-то, что родила! Подумаешь, подвиг! Да и родила-то ты с перепугу, вот что я тебе скажу, дорогая моя!»
Ну, где найти кольчугу, неуязвимую для чужих слов?! Я, чтобы успокоиться, послушала, как шары, забытые хромым дяденькой, в углу тихонько скрипят, и ответила, как могла, ровно: «Ты мне просто завидуешь». А Катька из темноты: «А если — да, то что? Запретишь?» Она смелая, не в пример мне. Я даже воспрепятствовать ее прогулкам с Андрейкой не в силах. Язык не поворачивается запретить! А чего боюсь, и сама не знаю.
Этот обычай Катька завела, как только снег стаял и чуть подсохло: разоденется в пух и прах, лицо «сделает» перед зеркалом, которое мы пополам купили, в складчину, когда Галя, отселяясь от нас, старое забрала, вместе с гвоздем из стенки выдрала; Андрейку, в одеяльце завернутого, на руки возьмет и не говорит, а приказывает мне, тоном, не допускающим возражений: «Мы — гулять! Помоги коляску снести. Или нет! Не надо. Сиди уж! Мужиков заставлю. Постирай тут. Утюг у Васьки Трефилова заберешь, он спираль поменять должен…»
Дверь — хлоп, и нет их, ушли. Я — к окну опрометью. Двойными рамами стучу, стекла звенят, открываю. Глянуть, в какую сторону эта пава с коляской поплывет, пальтишко на плечи накинуть и — за ними. Крадучись! Катька заметит — такой хай поднимет, что чертям в аду тошно станет. Мастерица, не хуже мамы моей или тети Нюси. Бегу за ней, задыхаюсь. А чего, спрашивается, боюсь? Чего опасаюсь? Вахтершам доверяю ведь, а разве они мне ближе? Но как вспомню, что Катька прошлой ночью, детским плачем разбуженная, мне сказала… Так все два часа за ними следом и прохожу. Будто разведчица в логове врага: за углом таюсь, за чужими спинами прячусь. Мне фотоаппарат в пуговицу — и в кино снимай! «Ошибка резидентши».
И еще задачка не из простых: опередить их на обратном пути, первой домой вернуться, успеть дух перевести. И вот они вваливаются. Катька Андрейку — прохладненького, вкусного — мне с рук на руки передает, и, пока я его разворачиваю, целую, перепеленываю и в кроватку укладываю, она перчатки с пальцев стягивает, светская львица. Оглядит все вокруг, будто герцогиня какая: «Конечно, не сделала ничего? Так я и знала! Морда пятнами — опять, вижу, ревела? И за утюгом не зашла?.. Ну, ладно, корми давай пацана, эту мелочь всю я сама простирну. Хоть комнату проветрила, и на том спасибо!» И действительно, все уберет, перестирает, выгладит. Вот какая она, Катюша!
Говорить и писать правду о себе, не врать, не приукрашивать очень трудно. Думал ли ты когда-нибудь об этом, Володя? Правда о себе неуловима, словно шарик ртути из разбитого градусника. Но как легко запутаться в паутине ее подобий! Наблюдая за Катькой, я заметила, как на подходе к зеркалу меняется ее лицо. Даже в правдивой и беспристрастной амальгаме, фабричным способом раскатанной по овальному толстому стеклу, она видит себя не такой, какой ее видят другие, вижу я, например. И тут мы все одинаковы, женщины и мужчины. Это вроде локотка, который не укусишь, или собственного голоса, впервые записанного на магнитофон, — послушаешь и всплеснешь руками: «Ой! Да неужто это я говорю?!»
В поисках образцов для подражания я листала последние, самые запыленные тома разных собраний сочинений. Знаешь, письма классиков показались мне написанными второпях, с узкой, конкретной целью, без кокетливой оглядки на потомство, явно не для обнародования. Публикация их — взгляд сквозь замочную скважину в чужую спальню, попытка увидеть чужую неприбранную постель и наготу. В этом есть что-то непристойное, ты согласен? Вот так, наверное, только не в скважину для ключа, а в специальный глазок надзирают за буйно помешанными и арестантами в одиночках. Но за душевно здоровым, заведомо невинным человеком, пусть давным-давно умершим… кто разрешил?
И вот тончайшая пряжа их жизни, безжалостно раздерганная на лоскуты, их жалобы, моления и укоры, снабженные комментарием и примечаниями, — все это переплетается в коленкор. Иной читатель, со скуки не поленившийся раскрыть пыльный, застоявшийся на прогнутой библиотечной полке том чужой интимной переписки, может, чего доброго, подумать, зевая: «Э-хе-хе! И до чего ж суетен и ничтожен был этот так называемый «гений»! Совсем как я или приятели мои, коллеги по сидению в конторе! Даже хуже, чего там: уж мне-то баба не изменяет. Пусть только попробует! Я не растяпа, нет! Не слюнтяй! За один помысел в бар-раний р-рог скр-ручу!..» Взглянет на свой кулачище в коротких рыжих волосках и усмехнется, дурень, самодовольно. Ну где ему понять, например, это пушкинское:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Потому и велик, что «всех ничтожней», что имеет силы признаться в этом, посмотреть правде в лицо!
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел…
Конечно, мои письма к тебе никакой гробокопатель-следопыт в будущем искать не станет, смешно и думать об этом. Они никогда не дойдут до печатного станка. И — слава богу! У Достоевского в «Бесах» один «свежий юношеский голос из глубины зала» сказал писателю Кармазинову, читавшему свое последнее произведение со сцены вслух на губернском балу: «Господин Кармазинов, если бы я имел счастие так полюбить, как вы нам описали, то, право, я не поместил бы про мою любовь в статью, назначенную для публичного чтения…»
И я бы не поместила. Ни за что! Больные, страшные, великие книги писал этот курносый и скуластый человек. И пусть все в моих письмах вранье, сплошная выдумка и литературное воровство, хоть табличку вешай: «Похищено из разных книг», — однако если ты покажешь их, эти письма, кому-нибудь, особенно той, другой, которая неизбежно меня сменит, займет мое место в твоей жизни, я… я тогда тебя прокляну! Самым страшным проклятием. Смотри, Володя!
Помнишь, я тебе газетную вырезку присылала, фото свое? Где я в красивой лыжной шапочке с помпоном стою, натираю длинную и легкую эстонскую лыжу мазью? И в мазях лыжных я не разбираюсь, и шапочка чужая на мне — сам фотограф и дал. А дистанцию я бежала в кроличьей мужской ушанке, очень жаркой и тоже, кстати сказать, чужой, обронила ее на подъеме, где-то на половине пути, обозлилась еще пуще… До сих пор не пойму, что трудней было: километры до финиша пробежать или рассказать об этом на бумаге!