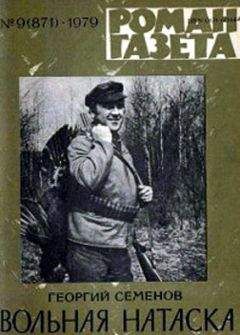Впрочем, он понимал, что это ожидание, эта привязанность к дому, неспособность заставить себя встать и уйти не что иное, как дикая блажь, ослиное упрямство, похожее на тихую затянувшуюся истерику, на приступ умопомрачения, так как он уже знал, что Верочка, конечно, вернется домой не одна, что ее кто-то проводит до дому, и, конечно же, появляться в этот момент перед ней по меньшей мере смешно. А то, что ему оставалось — вспышка света в окне, тень или, может быть, темный ее силуэт на фоне света, — все это было так ничтожно мало по сравнению с тем, чем он обладал, что вряд ли это смогло бы хоть как-то утешить его. Скорее наоборот, это бы вызвало в нем еще большее отчаяние. Но, увы, все это хорошо понимал не он, безумец, сидящий на мокрой скамейке, а тот, другой Бугорков, который тоже устал и, махнув рукой на одуревшего, продрогшего своего двойника, только изредка посмеивался над ним, бестолковым, не в силах понять и объяснить, зачем все это нужно.
Но наступила минута, когда Коля Бугорков очнулся… Нет, он ничего не увидел, ничего как будто бы не услышал, но, как верная собака, чувствующая хозяина, когда тот только еще подходит к дому, возвращаясь с работы, так и он в эту минуту почувствовал Верочку Воркуеву. Скорее даже не почувствовал, нет, а как бы уловил какими-то нервными волосками, каким-то чувствительным органом, что темный и холодный дом вдруг наполнился ею. У него забилось сердце, и ему, только что стучавшему от холода зубами, стало тепло от прихлынувшей к голове крови, он привстал со скамейки и с испугом впился взглядом в темную и мрачную кабину лифта, которая бесшумно стронулась с места и плавно, как в воду, погрузилась на дно глубокой шахты. Стальные нити тросов с той же плавной медлительностью вытянули тяжелый бетонный противовес наверх, под самую крышу, и он замер там. А внизу раздался чуть слышный шлепок металлической двери. Бетонная плита противовеса неслышно заскользила вниз, вниз, вниз, как тяжкий гильотинный нож по направляющим рельсам.
Голова Бугоркова, запрокинутая вверх, пылала жаром. Ему трудно было дышать, и было страшно предчувствовать что-то ужасное, и хотелось убежать, но не было сил убежать, и он опять с дрожью в теле смотрел во все глаза, как легко и радостно летит ввысь сквозь этажи освещенная теперь, весело клацающая на этажах кабина, бережно вознося самое дорогое на свете существо… Ритмично мелькавший желтый огонек кабины вдруг замер на площадке пятого этажа. Бугорков словно бы в ожидании очень унизительного удара страдальчески сморщился и хотел отвернуться сию же минуту, но не смог. А огонек кабины погорел немножко и погас. И тут же раздался Приглушенный щелчок осторожно прикрытой двери. Расстояние от столика до лифта было довольно большим, и звук чуточку опаздывал.
…В смутном его детстве протекала речка Тополта с каменным донышком… Серебристо-белые ельцы, которых он ловил на муху, ярко блестя чешуей, трепыхались на пружинистой леске. А напротив темнел высокий песчаный обрыв с черной крышей кузницы наверху.
В то время он еще ни разу не бывал на той стороне реки, боялся ходить по шатким лавам.
А из кузницы выходил на край обрыва маленький черный человечек и будто специально для Коли, городского мальчика, стучал тяжелым молотком по наковальне, стоявшей под открытым небом. Молоток его как резиновый беззвучно бил по наковальне и, пружиня, подпрыгивал над ней. А когда кузнец опять поднимал молоток над холодной поковкой, долетал до Коли звонкий и чистый звук удара. Это было похоже на какое-то волшебство!
Серебристые, как ельцы, облака текли в голубом небе. Холодные рыбки бились в руке, выдернутые из прозрачных струй. Сказочный человечек поднимал молоток, и тут же проскакивала в воздухе электрическая искра, рождая упругий, звонкий и округлый звук. А резиновый молот опять беззвучно бил по наковальне. Коля Бугорков, забыв про удочку, в крайнем изумлении смотрел на это чудо из чудес, впервые в жизни неосознанно почувствовав глубину и упругость воздуха, ощутив далекость того берега. Он стоял на низком плоском берегу, на хрустящих под ногами, промытых камушках, и ему казалось, что камни эти маленький человек набросал сюда с того берега. Они долго летели через реку и падали с резким и колким звоном к его ногам…
Бугорков не ошибся — это была Верочка Воркуева. И больше того, он не ошибался, когда думал, что Верочку обязательно кто-то проводит до дому.
Теперь Бугорков, как тот елец, пойманный на муху и выдернутый из своей стихии, отчаянно и бессильно сопротивлялся, болтаясь на крючке.
Верочка и ее провожатый вместе поднялись в лифте, а теперь, усевшись на широком теплом подоконнике лестничной площадки, стали целоваться.
Невидимая проклятая леска была так крепка, а крючок так глубоко и больно застрял, что не было никаких сил ни оборвать леску, ни сорваться с крючка. Он немо, как рыба, кричал и бился в ужасе и наконец сорвался и побежал к арке, гулко топая в ее каменной пасти, а рот его беззвучно выталкивал жалкий, отчаянный стон, будто у него лопнуло сердце.
Но леска, оказывается, была так крепка, а рыбак так искусен, что опять с бесовской жестокостью он подтянул свою жертву к мокрому столику под кленом. Коля не выдержал этой боли и заплакал.
«Господи, что же это? — спрашивал он, сквозь слезы глядя на Верочку, которая сидела к нему спиной, обняв целующего, возвышающегося над ней мужчину, который тоже обнимал ее. — Что же это? Да что же это такое! Верочка! Что ж ты… Как же ты?»
Бугорков зажмурился и как сумасшедший рванулся прочь, но что-то снова его остановило, и он с искаженным от ужаса и злости лицом заорал что было мочи:
— Собаки!!. А-а-а-а!
И, напуганный своим криком, своим внезапным помешательством, пьяно и тяжело побежал со двора и, не слыша, не видя никого, бежал чуть ли не до самой площади, пока силы не оставили его.
Он задыхался. У него, как в детстве, резко заболело что-то в груди, пугая его продолжительностью этой ножевой, острой боли, которая не позволяла глубоко вздохнуть.
Шатаясь от слабости и дурноты, доплелся он до липы, прислонился к шершавому стволу, расстегнул рубашку и, прижавшись лбом к холодной и мокрой коре, закрыв глаза, старался дыханием унять боль в груди… Но каждый вздох упирался вдруг в эту тревожащую и ставшую поперек груди боль, которая, впрочем, постепенно отступала, как бы оставляя все больше и больше места для дыхания. В конце концов она прошла бесследно.
Бугорков отдышался, привел себя в порядок, вытер глаза платком, причесался и, с какой-то сторонней усмешкой подумав о себе как о пьяном, которому отшибло память, невнятно и насмешливо пробормотал:
— Ну что это такое… безобразие, так распуститься… баба ничтожная… тряпка…
Он и в самом деле был похож на сильно опьяневшего человека. Его пошатывало, он странно улыбался и что-то бормотал.
А дома с ним случилась настоящая истерика: он хохотал, скрипел зубами, плакал, пугая несчастную мать, которая так растерялась, что утратила дар речи. К счастью, в соседней квартире жил старый врач, который довольно быстро справился с Бугорковым: он встряхнул его, развернул к себе лицом и несколько раз наотмашь с треском ударил по щекам и тут же дал понюхать нашатыря бледному и еле живому парню, который, впрочем, сразу же утих, погасил. свой бесовский взгляд, стал покорным и очень послушным и быстро лег под одеяло.
Встревоженная мать села с ним рядом и, поглаживая его потную горячую голову, чрезмерно спокойным и дрожаще-ласковым голосом стала баюкать сына:
— Маленький мой, Коленька… Ну разве так можно волноваться? Тебе надо отдохнуть. Вот я поглажу твою головку, успокойся, маленький мой… Все хорошо. Все замечательно. Вот сдашь экзамены, съездишь к дедушке, позагораешь, покупаешься. Может, и я с тобой тоже соберусь… Все хорошо у нас с тобой будет. У тебя еще вся жизнь впереди… Пойдем с тобой опять в лес землянику собирать, варенья опять наварим…
Верочка Воркуева, нацеловавшись с Тюхтиным, приведя в порядок свои одежды, застегнувшись и наскоро причесавшись, проводила его тихонечко до лифта, еще раз поцеловала на прощанье, шепотом сказала: «Смотри осторожней» — имея в виду завтрашний день и его работу на высоте, а после громко дребезжащего железного хлопка, уверенно цокая каблучками, подошла к своей двери и достала ключи. Никто бы не мог заподозрить ее в каком-либо легкомыслии, хотя и не было у нее нужды скрываться, потому что она целовалась и допускала некоторые другие вольности не с первым попавшимся, а с мужем.
Разумеется, ни о каком Бугоркове в этот вечер Верочка и не думала, а когда до них донесся истошный чей-то крик, оба они усмехнулись: Верочка с некоторым испугом, а Тюхтин с мужественным презрением, сказав брезгливо: «Шпана пьяная… Людей напугать могут». И они опять стали целоваться, замедленно, как в рапидной съемке, демонстрируя высший класс, пребывая в сладострастнейшем, тайном экстазе, растворяясь друг в друге.