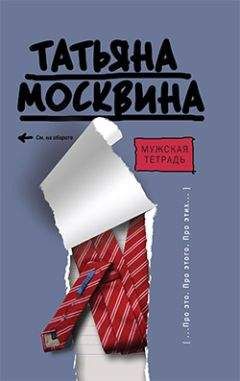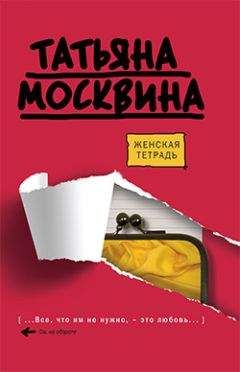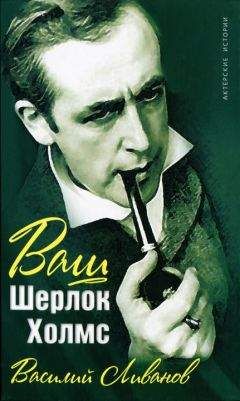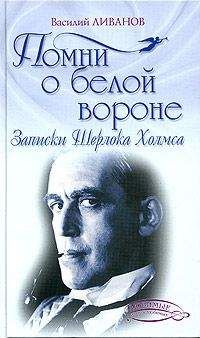Как правило, у нас на Руси частенько бывает так – чуть проклюнулась слава, живописец начинает эксплуатировать те черты своей манеры, что приглянулись публике, в точности разыгрывая затем сюжет страшной повести Гоголя «Портрет». И вот уже перед нами забронзовевший генерал от ИЗО, которого странно и представить себе за работой. А Дмитрий Жилинский остался солдатом – настоящим солдатом живописи в ее прямом смысле и назначении.
Его метод – синтетический, основанный на постоянном изучении самых высоких образцов, от византийских икон и живописи Возрождения до русского художества ХIХ-ХХ веков. На этот метод поддается далеко не всякая действительность, а потому художник тщательно ищет свои сюжеты, не впадая, пожалуй, ни в какой соблазн. Ни в авангардизм, ни в китч, ни в концептуализм, ни во что. Он «просто художник», с убийственной серьезностью играющий роль традиционного «просто художника», пишущего людей, цветы, деревья, небо и Бога.
Он может написать портреты датской королевской семьи и увидеть за парадными мундирами живые и забавные характеры. А может создать картину «Одна», где старушка сидит возле печки. И если на датских принцев можно взглянуть с любопытством, то от старушки отойдешь не сразу, разглядывая все тщательно прорисованные детали ее каморки (вплоть до баночек с вареньем) и воображая себе ее горестную судьбу – судьбу миллионов. Я давненько не задерживалась возле картин современных художников долее чем на пять секунд – а на выставке Жилинского провела около часа, проникаясь все большей и большей симпатией к его личности.
Строгость вкуса и чувство меры, ищущее, не самодовольное мастерство, умение увидеть и передать мгновения летучей, обреченной красоты, упорная приверженность традициям – словом, классик, решительный классик.
Отчего же личность Дмитрия Жилинского столь мало востребована? Конечно, он работает – работники такого уровня без хлеба не сидят. Но разве голос подлинного мастера, настоящего классика русской советской и постсоветской живописи, не пригодился бы при обсуждениях важных проблем культуры, облика наших городов, в вопросах образования и художественной жизни? Но, видимо, для активного участия в современности наш «солдат живописи» слишком серьезен. Никакой пены, мишуры, конъюнктуры, мельтешения.
Или, может статься, не тех, кого надо, портретировал – то есть не портретировал тех, кого надо. Эх, ничему особенно жизнь не научила солдатика – а ведь он 1927 года рождения.
Мог бы догадаться.
2007
26 марта Алексею Васильевичу Петренко исполняется 70 лет. Об этом великолепном актере хочется не рассуждать, а воскликнуть что-нибудь вроде «Да здравствует Петренко!» или «Хай живэ Пэтрэнко!».
Я впервые увидела его на сцене ленинградского Театра имени Ленсовета, году эдак в семьдесят третьем. Он тогда играл чисто комедийные роли – крупный, какой-то диковатый, с уморительной глуховатой скороговоркой. Помню его в спектакле «Левша» по Лескову в роли неистового казака, атамана Платова, где Петренко лепил образ могучего и при этом отчаянно смешного богатырского придурка. Проглядывали уже и тогда в актере природная мощь и явное знание «предмета исследования» (я имею в виду русского человека). Конечно, в Петренко от рождения живет наше – родное, и русским духом тут несет издалека: это не надо объяснять. Ни к чему.
Вот просто зыркнет на тебя со сцены или экрана узким, хитрым, звериным, умным-безумным, каким угодно, бездонным глазом – и просверлит насквозь. Или насмешит до колик, или напугает отчаянно. Что-то там звенит-гудит «под куполом» лба, там свои просторы немереные, под стать родным просторам. Сильно чувствуется в Алексее Петренко огромное внутреннее пространство. Он не только внешне большой, богатырский, со своим могучим певческим басом и «академическим» торсом, он и внутри огромный, многое вмещающий. Оттого он так диковинно говорит: будто не наружу слова выбрасывает, а втягивает невольно внутрь, как мощный двигатель. И вылезают слова из уст его не просто так, а протискиваясь и отряхиваясь, как настороженные, ценные звери.
Кино его разглядело не сразу, но взялось за него интересно – а открыл его гениальный первооткрыватель актеров Алексей Герман. В его картине «Двадцать дней без войны» Петренко произносил монолог на пятнадцать минут. Всю жизнь сильного, страстного, трагического человека рассказывал без обычного актерского штукарства и притворства. С лютым истовым накалом. Оторопь брала: так не играют. Таких актеров не бывает. Или бывают редко-редко, вызревают столетиями, как драгоценные изумруды в глубине гор…
Он снимался в фильмах Динары Асановой и потрясающе сыграл трагедию русского алкоголизма в ее ленте «Беда». Фильм еле-еле выпустили и потом не показывали по ТВ, кажется, никогда, а это изумительная работа, и Петренко там – на разрыв сердца играет. Мужика нашего, горемычного, знакомого до слез, у которого – беда, всем известная, жуткая наша беда. По имени русская жизнь…
Живут в Алексее Петренко, таинственным образом, прожитые реки русской истории – оттого он так силен в образах Распутина («Агония»), Петра («Сказ про то, как царь Петр арапа женил»). Там, в ролях этих, не просто сила и мощь, там настоящий огонь горит пожарищем – то ума сказочного, гениального, то бреда окончательного, болотного, русского. Потому что одно с другим у нас крепко связано!
Кто видал Петренко на сцене – так годами и ходит как отравленный. Одна радость, такого же встретить и начать вспоминать: а помнишь, как он в «Серсо» у Васильева пел «Севастопольский вальс»? А помнишь «А чтой-то ты во фраке» у Райхельгауза, ведь ничего смешнее в жизни мы потом не видали, правда?
Что делать! Пока наше чудо-чудовище вне постоянной сцены. Норовист. Разборчив. Неуживчив. Эх!
Все-таки классику поиграл немножко – «Женитьба», «Жестокий романс» (великолепен!). Грандиозный кошмар абсолютной тирании сыграл в «Пирах Валтасара» (он там за Сталина). Никите Михалкову приглянулся, стал незабвенным генералом Радловым («Сибирский цирюльник») Сам-то по себе генерал дурачок в парике, шут, а живет и в нем великорусское чудо неистового проживания жизни: уж запить – так до чертиков и наполеонов в глазах, а протрезвиться – так со всеми стихиями и с Божьей помощью.
Теперь часто играет Петренко генералов, начальников всяких: очень уж стал импозантен, величием отливает и во всех ракурсах скульптурно хорош.
Никакого умаления мощи не чувствуется. Этот дуб еще пошумит!
Ролей, ролей ему хороших, настоящих, русских, огромных, под стать богатырской его силушке – чего ж еще желать актеру!
2008
Обыкновенный необыкновенный
31 марта замечательному русскому (советскому) актеру Александру Збруеву исполнилось семьдесят лет. Наши поздравления!
Збруев прославился в чудесные шестидесятые годы. Тогда мир был молод и населен юными прекрасными лицами, тогда на свете еще был космос, полный тайн и надежд. (И в страшном сне зрители не могли бы себе представить, что когда-нибудь космоса не станет вовсе, а экраны жуткого старого мира будут забиты лысыми артистами!)
Збруев был хорош – со своими высокими скулами, пикантным прищуром, обаятельной лепкой лица и залихватской улыбкой: с таким прищуром прямая дорога была играть молодого Ленина, но вот не довелось. Как-то обошелся Збруев без каких бы то ни было идеологий вообще – и без бравых коммунистов, и без доблестных олигархов.
Играл он в основном, с первого своего детектива («Два билета на дневной сеанс»), людей вполне обыкновенных. Если и совершающих что героическое, то как-то так, без шума и пыли. Играл озорников и бузотеров, которые таковы не со зла, а тоже как-то поневоле. Его герои совершали даже и подвиги, но без героической позы, ввязывались в авантюры, но не нарочно. И симпатичное мальчишеское лицо Збруева, становясь все более известным, так и не обросло жирными «каиновыми печатями» нездоровой, неестественной популярности.
У него все как-то нормально. Естественно, человекоразмерно. Удивительный случай полной артистической вменяемости.
Больше сорока лет Александр Збруев работает в одном и том же театре – в «Ленкоме». Играет притом абсолютно разные роли. На сегодняшний день вы можете увидеть его в классике – в спектакле «Ва-банк» (это «Последняя жертва» Островского) он исполняет роль расчетливого, но увлекающегося купца Прибыткова, а в «Женитьбе» Гоголя – несчастного, припадочного жениха Анучкина. Один герой у Збруева лощеный, самодовольный, улыбчатый, другой – жалконький, скрюченный, обиженный. Но ничего сверхъестественного, чрезмерного в них нет, они просто люди, просто человеки. Обыкновенные – хоть и необыкновенные.
И про самого Збруева так можно сказать: обыкновенный необыкновенный. Такое славное, притягательное лицо: как ни рисовала на нем жизнь свои тени, впадинки и лучики, оно только выразительней да симпатичнее становилось. Но это вот как будто не картинный лик «звезды»… «кумира» – а просто хорошее лицо хорошо знакомого человека. Может, сосед. А может, вместе в поезде ехали, кто его знает – только осталось ощущение доброго знакомства.