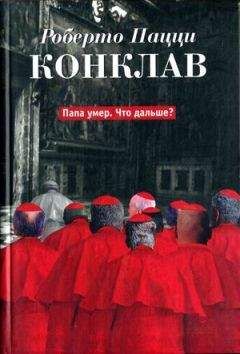С вторжением Маскерони в парную мгновенно прекратились все массажи березовыми вениками, не то, чтобы преосвященные испугались его присутствия, скорей, они были растроганы пришедшей на память сценой в капелле, когда одна из куриц «капнула» ему на голову. Они застыли с вениками в руках. И с прикрытыми от сильного пара глазами начали рассаживаться по своим местам; каждый улыбался от представленного: в случае чего несколько пернатых, спрятав от надзора, можно поместить и на их места…
Пайде поднялся и собрал веники, заметив, как погас в глазах каждого ехидный свет надежды увидеть еще раз нанесенный курицей вред бедному Маскерони. Когда тосканский кардинал приблизился к ним, внезапный кашель надорвал ему грудь; халат начал расходиться, он подтянул пояс. К нему подскочил получивший задание сопровождать его гвардейский лейтенант Капплмюллер и справился о здоровье.
– Как я себя чувствую?… Несколько странно, но пройдет, – ответил он в белую стену пара, который продолжал мучить его позывами на рвоту. Нет, видеть он не увидел, кто его спрашивает – перед ним возникло нечто неясное и высокое, и распознал, кто это, только по голосу. Наконец, отрегулировали термостат, жар несколько спал; кашель уменьшился, а глаза начали привыкать к полутьме зала.
Тут он и разглядел лейтенанта, юного Ханса Капплмюллера, который же повернулся к нему спиной и направлялся к своим товарищам. Вид этой мощной спины с великолепной мускулатурой, сильного затылка с короной курчавых волос медового цвета, этих ног, крепких, как колонны, ему казался невыносимым.
И тут перед ним предстало распадающееся морщинистое тело Вольфрама Стелипина и такое же – архиепископа из Палермо, увеличенное тучностью, безобразно карикатурное. Сейчас же справа от него возник прелат из Неаполя – артроз скрючил колесом ему ноги, голова склонилась к груди, несколько седых волосин смешались от пара и едва прикрывали череп, и выглядел он, как страшилище. С трудом передвигал ноги хромающий кардинал из Генуи, казалось – вот-вот остановится, замрет и не сделает больше ни шагу; на его синевато-багровом лице отражался ужас от затрудненности дыхания, которое у швейцарских гвардейцев, а также у их офицера, было легким, и казалось, будто их тела ощущали дуновение легкого морского бриза.
Да, что же это за место такое?
Какие еще муки предстоят бедным кардиналам?! Большое мужество нужно иметь, чтобы смотреть в лицо правде: созреваем для смерти. А ведь все эти вместе взятые, раздевшиеся донага, действительно упражняются здесь в терпении и в умерщвлении плоти, достойных святого Игнатия Лойолы.[56]
Теперь же его потряс, главным образом, контраст между собственным чувством достоинства, одетого в великолепный пурпур, и правдой этих нагих, тела которых никто не гладит по ночам в тайниках супружеского ложа. Эти тела, они никогда не знали наслаждения. А эти, цветущие и красивые парни… тоже пока не доставляют радость глазам женщин. Молодые и плодовитые ни для чего, они предназначены Богу и времени, которое Он забирает у их молодости. Однако общество верующих получает все еще сокровища от того молчаливого мученика. И не тех, которых бросали перед зверями в Колизее, нужно считать жертвами, а тех, кому приходится испытывать радость при рождении только племянников, плода любви их братьев и сестер. В церкви полно отказов подобного типа, открытых ран, к которым причастные привыкают, даже при условии, что приходят иногда мысли о возможности выбора другого направления в жизни. Эти парни из охраны, из военного корпуса, может быть самого древнего в Европе, как все солдаты, вернувшись домой, обязательно и довольно скоро встретят женщину. А ведь у них ни от этой службы, ни от этого конклава, ни от этого долгого разделения с другой половиной человечества не останется ничего, кроме воспоминаний юности.
Именно при этой последней мысли, повернувшись, он увидел лейтенанта Капплмюллера. Его глазам представилось влажное лицо, вспотевшее от слегка затрудненного дыхания, широкая открытая грудь, бока, обернутые полотенцем, живот. Улыбка на его губах, остававшаяся от разговора с товарищами, начала гаснуть, как только он вспомнил о своем долге. О долге наблюдать за стариками и за ним тоже, без лишних вопросов, без комментариев и обсуждения приказов командира.
Но, Боже, какой стыд теперь показывать этому мужчине свою собственную наготу и наготу других кардиналов! Чувствуется, как меркнет авторитет каждого из преосвященных перед этим офицером, привыкшим получать указания и выполнять их без того, чтобы ненадолго задержаться и посмотреть в усталое лицо.
Сидя на лавке, возле Стелипина, который безостановочно говорил, он чувствовал себя, перед этим стоящим около него солдатом совсем маленьким.
Кардинал Маскерони закрыл свои старые глаза, чтобы перестать любоваться этой красотой и забыть ее, забыть и землю, где существовало наслаждение. И на несколько мгновений в нем вспыхнуло, отчетливо и сильно: ах, какое это удовольствие вознестись на облака, подальше от оскорбительной и пустынной старости.
– Ваше Высокопреосвященство,… я очень доволен, что вы здесь среди нас… – раздался медовый голос Стелипина, старавшегося найти разумное оправдание своему присутствию.
Теперь Маскерони понял, что бесцеремонность того на совещании в турецкой бане превращалась в трюк, придуманный славянским прелатом для привлечения на свою сторону и его самого тоже.
Из-под прикрытых век посмотрел на этого человека – согнут годами, лицо испещрено морщинами, как зимой у многих русских, особенно у тех, что сидели в советских лагерях. Маскерони, запретив себе смотреть в сторону гвардейцев, громко ответил старому кардиналу с неожиданным раздражением, не свойственным его возрасту:
– Мне приятно тебя видеть здесь, дорогой брат, давай перейдем на «ты».
– Мы пришли сюда не для того, чтобы наслаждаться турецкой баней, как ты уже понял. Нужно постараться выйти отсюда с ясной идеей, более четкой, чем была сегодня после обеда.
– Пусть сначала уйдут гвардейцы, не тот случай, чтобы они присутствовали.
– А зачем ты их привел?
– Потому что боялся, что… Дай, я тебе объясню это в другой раз. Теперь уже поздно, у нас не так много времени.
Закутавшись в халат, кардинал Маскерони повернулся к лейтенанту Капплмюллеру и его солдатам и сделал несколько шагов в их сторону.
Они, все четверо, стояли у стены, подальше от кардиналов, чтобы не мешать.
Красивые тела, покрытые потом, полотенца облегают бедра, подчеркивая великолепные фигуры; такому, так держать собственное тело, не мешало бы поучиться.
В этот момент поднялся один из преосвященных, лица которого из-за густого пара не было видно, из его открытого халата торчал его мужской предмет. Маскерони повернулся очередной раз, чтобы постараться забыть это «оскорбление», нанесенное ему наготой бедного его собрата, не упрекая того в бестактности – такой он имел жалкий вид. Вспомнился библейский эпизод о Хаме, увидевшем наготу своего опьяневшего старого отца Ноя и обидевшем его, унизив насмешками.
Если вернуться к разговору о лейтенанте, то кардинал, глядя исподтишка на это прекрасное тело, о сексуальных способностях которого можно было только догадываться, почувствовал острую боль в груди. Его мозг затуманился, он прошептал лейтенанту Хансу Капплмюллеру, чтобы тот увел своих солдат. А потом, сам не понял как с его губ сорвалось такое, – пригласил офицера зайти к нему попозже в келью для доклада о проведенном дне.
Прислонился к стене. Большое зеркало напротив, над скамьями, вернуло ему его отображение. В зеркале отражалась и группа уходивших гвардейцев. Что случилось? В семьдесят лет поддаться такому смятению… Он, который являл собой пример этики? Он, который получил от Бога власть всматриваться в сердца верующих, направляя их тайны и их дар в сексуальной сфере? Он, который гнал из Церкви тех, кто не верил, доказывая ему с пугающей его силой, что, мол, Бога нет?
А эта власть означила, что от него требуется терпеть и отверженных, и порочных, и бандитов. И этот ужас, это страдание во имя Христа он должен был, обязан был выдерживать. Всю жизнь, начиная с юности, с семинарии в Прато, он был одним из наиболее стойких хранителей истинности теологии, которую позднее преподавал, был одним из профессоров, обращавших внимание приходящих на занятия семинаристов, на особенности, строгость и важность вероучения…
Опять увидел рыжую бороду бледнолицего святого отца Эсмеральдо, колумбийского теолога, сорок лет преподававшего в той же семинарии, спрятавшегося подальше от начальства. И опять почувствовал, как влажная рука священника поглаживает его шею, ту часть, что была свободна от волос над высоким воротничком, вот оно, вот он трепет… И вспомнил тот день, когда после чьего-то доноса на колумбийца его вызвал ректор семинарии для допроса, – но нет, он не подписал заявление о том, чтобы выгнали отца Эсмеральдо. В памяти вновь прозвучал вопрос товарища по комнате: «Да что же такое сделал тебе этот бедняга? Даже если он тебя трогал, он ведь замечательный учитель…» и его ответ: «Да нет, он был противный…»