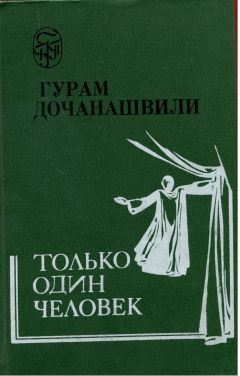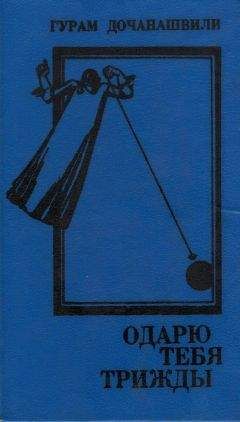— А ты, ты, мой Георгий, еще почитаешь себя неимущим и обездоленным, — продолжил через некоторое время, уже спокойнее, Бучута.
— Да! И, помимо всего, самое великое чудо — это все-таки мы, мы сами, люди. А ну, поди-ка сюда, Ефрем.
— Откуда ты знаешь, пятаки я зажимаю или гривенники! — прохрипел в его сторону Шашиа.
— Цыц ты! — рванулся вперед Бучута, заставив его пригнуть голову. — Не вынуждай меня подойти. Вот что, Ефрем, раскинь-ка пошире руки...
— Так?
— Да, — и окинул всех нас взглядом: — Знаете, что сейчас произошло?
— Я знаю! — воскликнул Ардалион Чедиа, — более ста тысяч мышечных волокон приняло участие в этом простейшем движении человеческой руки.
— Правильно, — подтвердил Бучута. — Жаль только, что выразился ты не совсем доступным языком. Это более ста тысяч тех волокон, о которых мы знаем, а о скольких мы еще не знаем, тю-уу... Если тебе не холодно, Ефрем, засучи рукава и поднимись — вот — на стул. А ну-ка, согни руку снова, а теперь пошевели пальцами. Вы только взгляните на эти гибкие, на эти послушные пальцы, ведь тебе не холодно, а, Ефрем? Стяни-ка, друг, лучше сорочку через голову, всякая одежда — один обман, та-ак, ведь тебе не холодно? Сделай глубокий вдох, Ефрем, глубже, еще глубже, таак. Ненадолго задержи дыхание, а теперь выдохни, — и обернулся к нам: — А сейчас что произошло, знаете? Ооо, нечто сложнейшее, нечто величайшее... и как все просто... Харалетцы! Взгляните на этого человека, он наш, он такой же, как все мы, он во всем нам подобен; вот вы видите его перед собой голого по пояс, гляньте на его грудь, лопатки, ключицы, высокую, сильную шею, а теперь посмотрите на его лицо, приглядитесь к его ушам, которыми он слушает, к его глазам, которыми он видит нас, к носу, которым он втягивает воздух, — невидимый, бескрайний и неисчерпаемый воздух; посмотрите, как гордо стоит этот обладатель столь прекрасного тела, господин и повелитель всего этого сложнейшего устройства! Так какой же ты неимущий, Георгий? А ну-ка, согни ногу, Ефрем. Брюки тоже снимаешь? Ну-ну, снимай, тебе прятать нечего, мы все одинаковые...
В наше время мужчины носили длинные трусы, и, внезапно возгордившийся собою Ефрем, закатал штанины повыше.
— Согни-ка ногу, Ефрем, а теперь распрями. Видели? Ничего, когда-нибудь поймете. Взгляни на свое запястье, Ефрем, присмотрись к чуть-чуть пульсирующим голубоватым жилкам на руке, ноге, щиколотке. Примечаешь бледно-голубые тропки под кожей? Это — сосуды, по которым буйным алым потоком струится животворная влага — кровь; ее рассылает своими толчками по всему телу наше маленькое, с кулачок, сердце, согревающее нас, словно солнце, дарующее нам жизнь. Но что это ты натворил, Ефрем! Хотя ничего, ничего, молодец, отверните головы, женщины...
Ефрем стоял на стуле в чем мать родила, прикрывая срамные места широкими ладонями. И когда женщины отвернулись, всем нам захотелось по-новому взглянуть на свое тело, но мы не осмеливались. А Ефрем несколько раз согнулся-разогнулся в пояснице, развел в стороны руки, попрыгал на месте, а потом с силой согнул руку, на которой взбугрился здоровенный мускул. Он так жадно, так аппетитно дышал, что мощная грудь его ходила ходуном, высоко вздымаясь и опускаясь; редко и крупно сглатывал слюну, он глядел на нас глазами, слушал нас ушами. И мы, харалетцы, тоже стали исподволь перебирать пальцами, приглядываться к своей коже — к бледным точкам на ней и соединяющих их линиям; стали рассматривать опутанные сетью тропок бугристые ладони: напрягли мышцы, затрещали шейными позвонками, услышали, как бьется внутри нас сердце, почувствовали, как вздымается-опускается грудь, и дошло до нас, что у всего свое назначение, а когда я упомянул об одной, казалось бы, на первый взгляд, лишней вещи — о бровях, Папико, глянув на меня, сказал: «Это для красоты»...
— Харалетцы! — воскликнул Бучута, — а нуте-ка, приложим ладони ко лбу. Вы чувствуете что-нибудь? Ах, ничего, да? И впрямь, дознаться об этом очень трудно...
— Как же мы, оказывается, хорошо устроены, — восхитился Пармен Двали. — А я бы никогда и не подумал.
— Это еще что! Все сказанное мною — всего лишь капля в море, — сказал Бучута. — А о скольком я еще вообще не упомянул, не то пришлось бы растолковывать вдобавок, чего только в нашем теле не намешано, — это и тысячи разного рода белков, это жиры, углеводы, крахмалы, стафилококки, ядра, протоплазма...
«Я же знал, женщина, что ты прибежишь! У меня для тебя был в кармане кишмииш!!!» — вдруг донеслось до нас издали.
— Иди и доверься таковскому! — возмутилась тетя Какала. — Продал женщину, как козу!!
— Чуу... — сказал Бучута и приложил палец к губам, — глядите, вечереет...
9
Вечерело.
Вечерело. Поредевший воздух стих, замер, замерли в оцепенении и наши Харалети — все, смолкнув, покорно и вместе с тем настороженно ожидало наступления ночи. Куры, вытянув шеи, вспрыгивали на деревья, воздух постепенно тяжелел, напитываясь лиловыми крапушками; в деревню, низко пыля, с глухим гулом возвращалось стадо; заскрипели калитки, зазвенело о подойники молоко — шустрые харалетские хозяйки сноровисто доили коров. Протяжно мычали телята. Белое облачко потемнело, но все еще бледно высвечивалось над почерневшей горой, в настоянном на синеве воздухе где-то замерцала свеча, и в небе тоже зажглась первая звездочка, слабенькая, сочащаяся белесоватым светом. Горы отступали и, уходя вдаль, все более чернели; кто-то кого-то окликал с холма на холм; то, еще недавно светлевшее, облачко тоже совсем почернело и подбавило горе высоты. Спускалась ночь, тихая, как тлеющая свеча; едва слышно шелестели печальные голоса. А наш глаз, этот неутомимый искатель, рыскал повсюду в поисках хоть малых крох света; мы всматривались в звезды, которые в густеющей тьме все более наливались свечением; ловили бледное мерцание в окнах, следили, как, дробясь в перекатывающих через валуны речных струях, болезненно растягивался и дробился отсвет зажженного на берегу костра. Стояла глухая, безлунная ночь, лишь в черных, цвета дегтя, прогалинах меж сгустившимися тучами посверкивали россыпи звезд. Продрогший Ефрем крест-накрест обхватил руками грудь и жалко дрожал, впившись пальцами в межреберья. «Мужчины, — сказал Бучута, — принесите факелы, мы пойдем в лес».
— И мы, женщины, тоже? — спросила тетя Какала.
— Нет, — покачал головой Бучута, — женщины — нет. Что делать женщине в ночном лесу! Оденься, Ефрем.
Никогда я не видел, чтоб Харалети ночью были так ярко освещены. Мы шагали бок о бок, высоко воздев пылающие факелы; колеблющееся пламя металось по земле, по крышам, и Харалети, по которым мы, многие, шли сейчас вместе, с факелами в руках, казалось, тяжело колыхалось. Ступая очень твердо и четко, мы по одному прошли по перекинутому мостом бревну, оставили за собой город, одолели невысокий холм; двигаясь стройными рядами, мы, ходячие светильники, бодрым шагом пересекли широкое поле и остановились — здесь тропка терялась и прямо у наших ног начинался лес. Дальше мы бы уже не смогли идти так смело, чувствуя плечо соседа, но Бучута ничего нам не говорил, он только повертел в руке факел, и, когда запрыгавшая было тень огромной липы, качнувшись, снова стала на свое место, решительно вступил в чащу. Первым за ним последовал Папико, затем Кавеладзе; за ним двинулись оба Глонти, Ардалион Чедиа, Малхаз Какабадзе; из мужчин, собравшихся во дворе Папико, недоставало только Бухути Квачарава, Шашии Кутубидзе и Осико: первый кинулся к заместителю городского головы Какойе Гагнидзе — известить его о происходящем; второй был сильно не в духе; третий побоялся застудить горло, да и просто побоялся, а мы, отважившиеся харалетцы, шагать-то шагали, но не без изрядной опаски, уставившись с надеждой в спину идущего впереди человека, и только один он, Бучута, смотревший непосредственно в темноту, ступал по-прежнему твердо и непринужденно. Мы шли, и в колеблющемся свете где-то вдали вдруг четко обрисовался увядший лист, чтоб тут же снова потонуть в беспросветной тьме угрюмо молчавшего леса. Волны теней бессильным ветром пробегали по застывшим в неподвижности веткам и листьям; Титико Глонти споткнулся о торчавший из земли корень, и на нас ринулись и отпрянули, натолкнулись и шарахнулись вспять исполинские тени; сердца у нас дрогнули, но мы были вместе, нас было много, и в руках у нас были зажженные факелы.
Мы — шли...
— Так что там говорил этот шпендрик?
— Ух-ух-ух, каких только глупостей не порол, — отмахнулся Бухути. — Воздух, говорит, — это очень хорошо, вода и того лучше, солнце же, оказывается, сударь вы мой, горячее. А уж о таких чудесах, как папоротник, дуб и базилик, и говорить не приходится.
— Ха! — усмехнулся Какойя Гагнидзе. — Значит, говорит, солнце горячее?
— Да, говорит. Интересно только, когда он щупал солнце руками...
— Да ну тебя, Бухути, совсем уморил! — захихикал Какойя Гагнидзе. — А где сейчас они, знаешь?