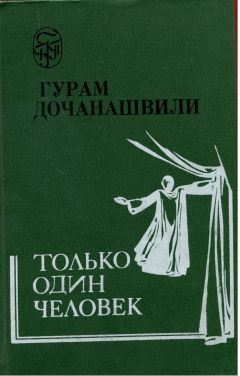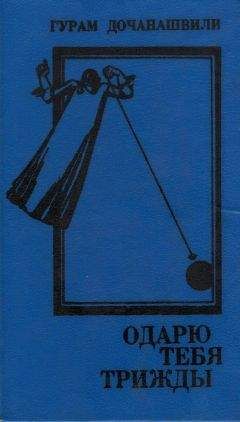— Ой, да, слышим мы...
— Но удивительнее всего то, что порой вы норовите навести порядок в целом мире, и чего только не затронете вы тогда в своих разговорах, кого не возьмете на зубок. Каждый из вас готов перевоспитать все человечество, кроме одного-единственного человека, — самого себя, ибо никто из вас себя к этому легиону не причисляет. Соизвольте же, харалетцы, — и это будет всего вернее, — приглядеться первым долгом к самим себе — к этим своим большим, маленьким, бритым, кудрявым, щетинистым, черным, белокурым головам, а уж потом благоволите взять на себя заботу о целом мире. И откуда у вас, добросердечных, простодушных, доверчивых и не знаю еще каких, берется столько хитрости и злости! Вы играете кого-то другого и, так сказать... Как это говорит почтенный Малхаз? Мы-де входим в роль, а потом... потом не можем из нее выйти обратно!.. — Ну и как, хорошо это?.. — Нет, что вы, сударь! — с утра до ночи театр, где это слыхано... — Только по вечерам, да? — Да, конечно, по вечерам... Вечер он и есть вечер, по вечерам все можно. — Только по вечерам, да? — Да... Я же говорю, вечер есть вечер, по вечерам все допустимо... — Послушайте меня, поверьте мне, харалетцы, — все в мире уравновешивается; запомните, все, рано ли, поздно ли... когда-нибудь потом! — Когда это потом... — Ох, какой же ты нетерпеливый, Пармен! О «потом» говорить сложно!.. О «потом» после поговорим, Пармен... — Будь по вашему, сударь... — Ээх, сколько чего я еще должен был вам сказать, но... — Скажите уж заодно, сударь! Мы ведь вот они — тут, перед вами!
— Глядите — светает...
Действительно светало.
Увидя, что тьма редеет, мы, скорченные-съеженные, приободрились и сразу же отвели щеку от щеки, плечо от плеча; ночь — таяла. Воздух рассыпался в синеватое крошево; растянувшаяся беззвучным мычанием ночь истончалась, таяла; сперва из темноты выступили деревья, затем верхушки их оделись в листву и далеко меж ветвями что-то заалело. Вскоре мы увидели и пеннобурливый ручеек, со дна которого вскорости проглянули и камешки; мы, осмелевшие харалетцы, поднялись, расправили ноги, немного походили. Зашумели-загомонили птицы. Где только они до сих пор таились, примолкшие... Когда выкатилось солнце и в световом столбе засверкали кристально-чистые точечки, Титико Глонти, обхватив ладонями затылок, откинул голову назад и — ииеэх! — аппетитно потянулся. Та грозная, ночная река превратилась в безобидный ручеек. Пармен безо всякого страха шагнул в него, горстями плеснул водою в лицо и зафыркал — какая тебе там золотоволосая женщина, что за женщина, какой такой водяной или какой еще бес, представляете? Пармен, значит, бесстрашно умыл лицо, провел мокрой рукой по волосам, подтянулся, приосанился; Ефрем Глонти присел на корточки — встал, еще и еще раз присел-встал, после чего браво выпрямился, выпятив колесом грудь, и окинул нас всех самодовольным взглядом. «Не много наработаешь сегодня, — с досадой сказал Титико. — А меня ждет кукурузное поле... Добро бы прокутили ночь напролет, а то...» — «Ха, — усмехнулся Пармен Двали, — позавчера в это время сидели за пирушкой». — «Не за пирушкой, а за столом», — поправил его Ардалион Чедиа. — «Ох, тоже, как будто не все равно! Делать тебе нечего!..» Но больше всех кипел Самсон Арджеванидзе. Сняв каламаны, он так ими тряхнул, что вылетевший из них камешек громко звякнул о камень. Пармен хихикнул: «Что это за таинственный звук был, а, Самсон?» — «И меня, старого дурака, втянули!» — воскликнул Малхаз Какабадзе, стукнув себя рукою по голове. А Ардалион Чедиа сказал: «Выходит, зря мы себе дома понастроили! Нет, право, что за нужда нам была переться ночью в лес, мы же не медведи и не волки!..» — и поглядел на Бучуту, который, как-то весь внезапно съежившись, отводил ото всех глаза, даже от Папико, сочувственно заглядывавшего ему в лицо. «А как урчал-бренчал ночью!» — пренебрежительно покосился Ефрем Глонти на ручеек и глянул на Пармена. «Бренчал! Не вроде ли золотых червонцев?!.. — досадливо отмахнулся Пармен. — Хоть теперь пошли домой».
Хо-хо, как браво мы шагали! «Ты свой факел забыл, Титико!» — крикнул ему Ефрем. «Да ну его ко всем чертям, он мне больше никогда не понадобится...»
Пармен раз-другой хитро огляделся по сторонам, усмехнулся каким-то своим каверзным мыслям, а затем повернул голову к понуро тащившемуся в хвосте Бучуте:
— Вы ведь как будто говорили, что негоже слишком много болтать? — Но будь благословенны твои родители, я еще не видел человека, который бы так без устали молотил языком.
— Да, он впал в крайность, — отметил Ардалион Чедиа.
— Эхмаа! — выдохнул Бучута.
И так маленький, низкорослый, он сейчас, в неверном свете чуть занимавшегося дня, казался еще меньше.
— Так вот, если это ваше «потом» еще сложнее и вы собираетесь о многом сказать, — рассмеялся Пармен, подмигнув нам и прихлопнув себя по бедру, — так давайте уж лучше совсем поселимся в лесу, и чешите тогда себе вволю язык, сударь.
В строю там-сям раздался смех, и Пармен еще пуще закуражился:
— А правда, откуда ты взялся, парень?
Бучута молчал, низко опустив голову.
— Не проглотил ли ты случаем язык, а? Вчера в лесу небось так здорово плел турусы на колесах. Или, может, бережешь слова на завтра?
— Завтра меня уже не будет...
— Ишь как?! Уж не собрался ли умирать?
— Нет. Сегодня я уйду.
— Чего торопиться, сударь, — заблестели у Пармена глаза, — не пожалели бы нам на пользу еще двух-трех словечек...
— И то, что говорил, все, оказывается, впустую, все не в коня корм, — ответил Бучута. — Хотя тебя пока еще можно исправить.
— Да ну! Ишь ты как! Не хватало еще, чтобы ты меня исправлял... Ба! Кто это там?! — оторопел вдруг Пармен. — Нет, нет, не этот, а воон там, на горке... Вон таам, там, по ту сторону на склоне... Ух ты, никак это Тереза, люди добрые...
— Он, — подтвердил Папико.
— Чего-то, видать, зол, рвет и мечет. Глядь, как набычился. А это кто же с ним рядом?
— Шашиа, Кутубидзе.
— Вот так-так. В чем же, интересно, дело...
Теперь мы снова набрались страху, но это был уже другой страх — страх перед явным и зримым. Озлясь на кого-нибудь и войдя в раж, Тереза мог, под горячую руку, налететь на любого и так его отделать, что об этом хорошо помнили наши бока, которым не раз от него перепадало. И все это будто бы в шутку. Ничего себе, хороши шуточки... А сейчас он грозно сверкал глазами и сжал пальцы в такие огромные кулачищи, что мы было окаменели на месте, а когда немного очухались и собрались пуститься наутек, Тереза сделал один исполинский шаг, второй, третий и двинулся прямо к Бучуте (только этого бедняге недоставало). Подойдя вплотную к этому щупленькому человечку, он навис над ним всей своей устрашающей громадой.
— Я, значит, не высокий... да?!
— Нет, — послышалось в ответ: самого Бучуты уже не было видно, Тереза полностью его перекрыл. — Не высокий ты.
— Таак. А что же, какой я тогда?
— Просто длинный, — снова послышалось в ответ.
— И как он осмеливается, этот шибздик! — поразился Пармен. — Видать, совсем малохольный. Вот кого мы, оказывается, слушали...
— Почему-то все кретины и ненормальные должны собраться у нас, — с обидой проговорил Титико Глонти.
— Это оскорбление, Тереза! — прохрипел в спину Терезе Шашиа Кутубидзе.
— Так как, значит? — грозно спросил Тереза маленького Человека, расправив свои беспредельно широкие плечи.
— От правды не уйдешь, — донеслось до нас.
— Вы слышали, что он сказал? Слышали, ну?! — вылупил на нас глаза Тереза. — Теперь, двинь я его разок, он ведь копыта откинет, а меня ни за что укатают в Сибирь. Нужно мне это! Пшел вон отсюда, недоносок, уматывай, пока цел... — И в недоумении: — Ну?..
— На наших глазах происходило чудо — Терезу впервые осмелились обидеть!
Но не равнять же было себя отчаянному сорви-голове с подобным плюгавцем, о которого и руки марать стыдно. И Тереза, видать, собрался уходить, но...
— Никуда я не уйду, — услышали мы вдруг.
— Что-о? — не поверил своим ушам Тереза. — Не пойду, говорит? Уух, ты...
— Я сказал, и кончено.
— Это я тебя сейчас прикончу! — проревел Тереза, угрожающе приподняв плечи. — В порошок сотру, слышь ты...
— Сморчок, мелкота! — подсобил Шашиа.
— Слышь ты, сморчок, вот схвачу тебя сейчас и башкой о камни...
— А теперь, теперь мы посмотрим, кто зажимает пятачки и кто кого расплющит, как пятачок. А ну, давай-ка, Тереза, ну, Терезико!
— Раз дам по твоей поганой башке кулаком, она и развалится, как тыква.
— Заткнись, парень! — прикрикнул на него Самсон.
— Сам заткнись, будь ты батька или дядька!
— Прав отец! — выкрикнул Шашиа.
— Я вот схвачу вас с отцом обоих за шкирку и так стукану мордой о морду, что твой нос достанется ему, а его нос — тебе. Я тут никаких батек-дядек не знаю!
— Как ваше самочувствие, Тереза-батоно? — выступил вперед Пармен Двали. Но его мигом приткнули: