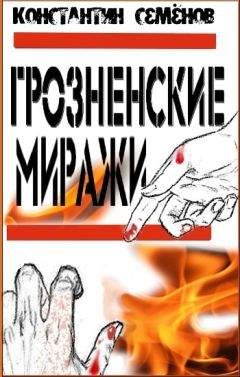Или бросить? В конце концов, не может же он отвечать за всех на свете? Даже за друзей. Не виноват же он, что друзья бывают такими баранами?
Не виноват? Разве?
Как-то вечером Витька очередной раз спустился к Пашке. Было уже тепло, они вышли на балкон и молча следили, как убирают последние бетонные плиты, загораживающие новый мост. По мосту ползла машина с вышкой: электрики развешивали гирлянды из разноцветных лампочек. Справа виднелась гостиница «Чайка», за Сунжей непривычно возвышался ещё необжитый новый Обком, по темнеющему небу плыли белёсые облака.
Помнится, он что-то сказал про Аню. Сказал, заранее приготовившись услышать очередную гадость, каких наслушался уже выше крыши.
Пашка молча зашёл в комнату, тут же вышел, держа в руках бутылку «Российского» и два стакана.
— Давай выпьем, Муха, — сказал Пашка, глядя на мост. — Давай выпьем за «Гималаи».
Виктор чуть не уронил стакан. Лучше бы его назвали муравьём. Лучше бы его ударили!
Ведь это он рассказал всё Пашке. Рассказал давно — ещё перед свадьбой. Зачем? Что у него тогда произошло в голове — короткое замыкание?
Виктор поднёс стакан и выпил горькое вино, не отрываясь.
Ночью он спал плохо. То снилась всякая гадость, то просто сами по себе открывались глаза, и он лежал, таращась в потолок, и старался не шевелиться, чтоб не потревожить Свету. Потом не выдержал, встал, осторожно протиснулся между диваном и детской кроваткой и подошёл к окну.
Машин на улице не было совсем, в домах одиноко светились редкие светлячки окон, вызывая в душе томящее чувство одиночества. Впрочем, таких окон было мало: приличную часть вида теперь перекрывала тёмная громада нового Обкома.
Подул ветер, разогнал облака, и с неба на сонный город полился холодный лунный свет. Высветил новый, ещё не открытый мост, пробежался по флагу на крыше Совета Министров и заискрился тысячами бликов по тихо журчащей Сунже.
Виктор смотрел на них как завороженный, в голове смутно бредили вялые мысли, никак не желая оформляться во что-нибудь отчётливое. Внезапно слева возникло движение, он скосил глаза и улыбнулся: по-над Сунжей, играя бликами на тонких листьях, шумел айлант.
Тогда-то он и понял, что нужно сделать.
Договориться с Аней оказалось, на удивление, легко. Похоже, она всё-таки решила, что «крибле-крабле-бумс» произнесено. Ладно, не стоит её пока разубеждать.
С Тапой оказалось сложнее.
— Что за муть, Муха? — лениво отпирался Пашка. — На фиг мне этот салют сдался? К тому же, с балкона в сто раз лучше видать.
Этого Виктор не предусмотрел: с балкона, действительно, вид был лучше, чем с моста. На секунду возникла паника, что всё сорвётся. Паника подействовала.
— Тебе трудно, да? — Виктор постарался, чтоб в голосе звучало как можно больше обиды, и сам себе удивился. — Трудно? Я ж тебе говорил, что Света хочет с моста посмотреть, а я опасаюсь: народу там слишком много и… Короче, ко мне тут прицепились. Чечены… нет, армяне… Трудно тебе, да?
Врать нехорошо, говорила мама, ложь всегда раскрывается. Правильно, только сейчас это не важно. Не важно, что врёт, не важно, что Тапик опять посчитает его трусом. Важно, чтоб было убедительно.
— Мутишь ты чего-то, Муха, — недовольно пробурчал Павлик и пошёл надевать штаны.
Столько народу на улице Виктор не видел уже давно — прямо демонстрация, даром, что вечер. Особенно тесно у старого моста: народ всё прибывал и прибывал, спрессовывался в шумную праздничную толпу. Кого здесь только не было: молодёжь, семьи с детьми, старики. Очень много стариков, все в праздничных костюмах с орденами и медалями. Похоже, полюбоваться праздничным салютом решил весь город.
На секунду Виктор испугался, что к спуску в сквер у «Чайки» уже не пробиться. Испугался, выставил локти и вклинился в толпу. Сзади, недовольно ворча, пробивался Пашка.
— Куда тебя несёт? Извините, бабушка. Муха, куда ты лезешь?! Чёрт, почему это Девятого мая больше всего пьяных? Муха!
Витька не отвечал. Пусть ноет — лишь бы не отставал. Уже немного осталось. Уф, до чего же все-таки много народа! А если её там нет, если не смогла пройти?
По ушам ударил резкий грохот, и где-то в районе «Динамо» в тёмное небо взлетели первые огненные кляксы.
— Ура! — восторженно взвыла толпа. — Ура-а!
— Муха! — ухватил его за плечо Пашка.
Виктор, не поворачиваясь, сбросил руку и снова нырнул вперёд. Кто-то закричал ему в ухо, кто-то резко толкнул в бок. Ничего — вон уже и ограда видна. Ещё чуть-чуть!
— Куда прёшь? — заорали в ухо, в плечо вцепилась рука.
Виктор попробовал вырваться: бесполезно — рука держала железной хваткой. Обернулся: на него уставился полный, изрядно пьяный мужик. Выпученные глаза, красная морда, брызжущие в стороны слюни.
— Куда прёшь, сопляк? Да я тебя!..
Мужик замахнулся и вдруг застыл, вытаращив глаза. Шумно глотнул воздух и съежился, словно воздушный шарик, в который ткнули окурком.
— Извини, дядя! — пробурчал сзади Пашка. — Сам виноват.
Оттёр его корпусом, схватил Витьку за руку.
— Ну, куда дальше, Муха? Сюда?
Протиснулся вперёд на пару шагов, ещё на шаг. Ещё.
И застыл, как вкопанный: впереди, прямо у ступенек стояла Аня. Плотно окружённая со всех сторон толпой и в то же время как будто одна. Может быть, потому что смотрела не туда, куда все? Не за Сунжу, где в небо взлетали огни фейерверка, а прямо на Пашку?
Глаза её были черны как ночь, и в них тоже вспыхивали разноцветные огни.
Как в калейдоскопе.
Как в чёрной дыре.
— Аня? — сказал Павлик. — Откуда?
— Павлик? — сказала Аня.
Ни он, ни она ничего не услышали: воздух рвануло от очередного залпа, восторженно взревела толпа.
Сигаретный дым замер, словно раздумывая, переменил направление и, постепенно ускоряясь, радостно помчался к никелированному зеву вытяжки.
«Как бабочка на огонь», — подумал Виктор Михеев, закурил новую сигарету и снова перевёл глаза на лежащий на коленях рисунок.
Рисунок был обрамлён в рамку и закрыт стеклом. В стекле отражалась лампа, а под стеклом, так же как и много лет назад, сидели на облаке двое. Сидели, болтали босыми ногам, улыбались и смотрели друг на друга. Смотрели так, что было абсолютно ясно: больше они не видят никого и ничего.
«А ведь это он не нас рисовал, — вдруг понял Виктор. — Никогда Света на меня так не смотрела. А вот Аня тогда, на мосту…»
— Ох, и накурил! — вошла в кухню Света. — А картинку зачем снял?
Виктор промолчал. Светлана подошла ближе, взяла рисунок, отвела подальше от дальнозорких глаз.
— Да, умел твой Тапик…. А смотрят-то как!
— Я на тебя так смотрел?
— Не знаю.
— А хотела бы?
— Не знаю, — опять повторила Света и пожала плечами. — Так только в книжках бывает. Витя, а ты что так напрягся, когда я про часы сказала?
— Подумал, что… что ты совсем не это вспомнила.
— Господи! — воскликнула Светлана и положила руку ему на плечо. — Ты о деньгах? Перестань, ты сделал тогда всё, что смог. А вот твой Павлик…. И вообще — сколько можно себя терзать? Шестнадцать лет прошло!
Очень хотелось посмотреть картину. Очень хотелось проверить, не показалось ли ему вчера, правда ли получилось.
Хотелось настолько, что началось чесаться всё тело: сначала спина, потом шея, и через пять минут чесалось уже везде. Самое поганое, что от желания достать холст это нисколько не отвлекало.
Павел подошёл к окну, прислонил лоб к нагретому за день стеклу. Помогло плохо.
«Господи, когда же, наконец, она уйдёт?»
«Она» — Анна — уходила уже минут пятнадцать. Сначала долго красилась, потом одевалась — Павел слышал, как стучали дверцы шифоньера. По опыту он знал, что до конца ещё далеко. Потом несколько раз прошла из комнаты в комнату и на кухню. Искала что-то? Минут через пять Аня, вроде бы, собралась и даже надела туфли — он понял это по шуму в прихожей. Начала открывать дверь, тут же закрыла, опять разулась и, не надевая тапочек, прошла в комнату. Там что-то зашуршало. Деньги что ли забыла?
Наконец, когда казалась, что Анна уже не соберётся никогда, а чесотка стала подбираться к пальцам ног, в прихожей хлопнула дверь и дважды повернулся в замке ключ.
Неужели?!
Павел, на всякий случай выждал ещё минуты три и почти бегом бросился в угол мастерской, где среди старых запылённых холстов притаилось сотворённое вчера непонятно что.
То ли чудо, то ли ужас.
Время, казалось, остановилось. Нет, не так — скорее оно стало вязким, как плавящийся под солнцем пластилин, замедлилось в сотни раз. И это было совсем не так, как в детстве, когда за один день успевало происходить столько событий, что хватило бы на целую жизнь. Теперь не происходило ничего.
Одно и тоже. Каждый день одно и тоже. Каждый день.