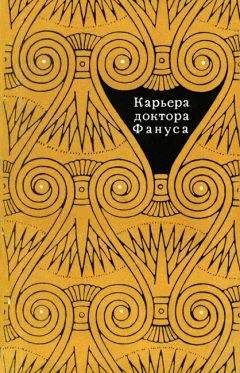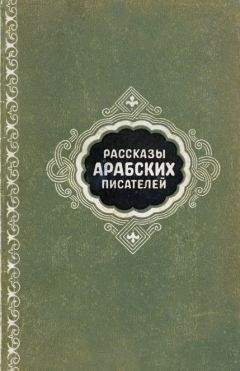Роковая ошибка, которую он осознал только теперь, которую он ясно видит при ярком свете, льющемся из души Фахми и освещающем собственную его душу, заключается в том, что всякое достижение лишено смысла, если ты один. Что толку, если ты стал венценосным монархом или ученым, лауреатом Нобелевской премии, а вокруг тебя бесплодная пустыня? Все на свете, всякие радости лишены смысла, если ты вкушаешь их один.
Правда, он не один. У него есть жена, сын, родственники, несколько друзей. Но его отношения с ними — всего лишь видимость любви и дружбы, чувств, которые возникают между людьми из глубокой внутренней потребности друг в друге, столь же острой, как потребность в воде и в воздухе. У него есть братья, и жена, и знакомые, но общение с ними не представляет для него жизненно важной потребности. Если бы он впредь хотел жить так, как привык, то мог бы обойтись и без них. Они, возможно, будут нуждаться в нем. Но ему никто не нужен. Вернее, ему очень нужен, ему необходим кто-то, но только не они… Отсюда и эта нестерпимая боль… Поэтому возникла и стала расти раковая опухоль, парализующая улыбку на его губах, ибо он чувствует, что ему не нужен смех, леденящий чувства в груди, ведь он не ощущает потребности любить или быть любимым. В этом сущность трагедии, превратившей его в живой труп.
Он услышал крики Фахми теперь совсем близко, потому что уже дошел до кухни и сидел возле двери. Крики раздались после молчания, показавшегося ему бесконечно долгим. Казалось, стоило Фахми ощутить его присутствие, и боль утихла. Теперь слышались скорее не крики, а плач. Аль-Хадиди почувствовал, как в груди у него закипают слезы и сердце рвется на части. Он не плакал с детских лет. А теперь ему очень захотелось плакать, долго, безутешно, плакать от жалости к себе. Он понял, что сам больше всех нуждается в жалости.
— Дай руку, Фахми. Положи ее вот сюда, мне на грудь. Я знаю, ты болен. Я сочувствую тебе и хотел бы разделить твою боль. Но я не могу. У меня камень вместо сердца. Я бросил вас всех. Тебя в Зинине. Саада — в Бенхе. Абд аль-Мухсина — в Асьюте. Бросил университетских друзей. И собратьев по перу. Всех, всех. Я думал, вы идете обычным путем, длинным и тернистым, тогда как есть другой путь, легче и короче. И вот я давно уже мертв, а вы живете. Я мертвец, который убеждал себя, что он избегает людей, но на самом деле люди чураются его. Кому нужен труп? Я чувствую, что даже жена и сын воротят от меня нос. Я хочу вернуться назад, Фахми, хочу начать все с начала. Хочу попытаться сделать это. Но кто примет меня? Кто примет труп? Кто согласится на такое? У меня нет никого, кроме тебя, Фахми. Примешь ли ты меня? Примешь, Фахми?
— Живи, Махмуд…
Он не удивился, что Фахми произнес эти слова. Впервые за все время Фахми заговорил. Не удивился он и тому, что Фахми назвал его Махмудом, словно имя это напомнило ему былые времена, их общее прошлое. Он понял только, что ему не отказано в просьбе, и вымолвил тихо:
— Спасибо тебе, Фахми, спасибо…
Аль-Хадиди лег, как был, в пижаме на кафельный пол кухни, взял руку Фахми и стал целовать ее и утирать ею слезы, непрерывно струившиеся из его глаз. При этом он повторял: «Прости меня, Фахми, прости меня… Простите меня, люди… Я ошибся, я сбился с пути, я жестоко страдаю… Прости меня, Фахми».
Но Фахми вдруг снова стала терзать боль, и он закричал из последних сил. Все окна дома давно уже были распахнуты, и жильцы поневоле вслушивались в истошные вопли, от которых не спасли бы и наглухо закрытые двери и окна. Крик, переполошивший весь дом с его баввабами и беями, господами и няньками, долетал до соседних домов, тревожил их обитателей. Если бы крик длился еще, он, быть может, разбудил бы весь квартал, а то и целый город. Но жильцы вызвали полицию. Полицейским открыла жена, еще полусонная. Однако она мгновенно очнулась, когда провела их на кухню и увидела там своего мужа, который стоял на коленях и целовал руку Фахми, прося у него прощения.
Фахми подняли, наспех одели. Двое полицейских хотели вынести его, но аль-Хадиди воспротивился. Он сам взвалил Фахми на плечи и понес. Болезнь уже настолько иссушила тело больного, что остались лишь кожа да кости. Афат вцепилась в мужа, допытываясь, что он намерен делать. Он улыбнулся ей — новая, неведомая для нее улыбка осветила его лицо — и сказал:
— Я пойду другой дорогой, очень трудной… Ты пойдешь со мной?
— Куда я с тобой пойду в таком виде? Ты что, с ума сошел?
И она обеими руками прижала к себе маленького Фахми. А аль-Хадиди повернулся и пошел прочь с кричащим, воющим человеком на плечах. Жители дома и всего квартала провожали его взглядами, перешептывались и посмеивались… Он прожил здесь два года в постоянном страхе, как бы кто-нибудь не разнюхал, что он из простонародья, не рассказал всем, кто он и что он такое. Без сомнения, многие в этом квартале поступали не лучше. И теперь он видит множество трупов, выглядывающих из окон, стоящих у дверей… И он убыстряет шаги, стремится поскорей покинуть этот квартал… Потому что смрад, царящий здесь, сделался невыносимым.
Родился в 1929 году в Александрии, в семье муниципального чиновника-копта (потомка древнего населения Египта, сохранившего христианскую веру). В 1952 году закончил английское отделение филологического факультета Александрийского университета. Работал преподавателем английского языка, одновременно сотрудничал в прессе. В 1960 году был назначен советником управления народной культуры при министерстве культуры, в 1967 — советником управления по делам театров. С 1971 года — директор каирского театра Комедии.
Начал писать стихи, рассказы, критические статьи в студенческие годы. Первая одноактная пьеса «Голос Египта» была написана и поставлена на сцене в 1956 году. Всего перу Фарага принадлежит около десяти пьес.
Фараг — автор сборника коротких рассказов (1968), исследования о театре «Путеводитель по театру для умного зрителя», им переведены с английского языка «Литературные портреты» А. М. Горького.
Перевод В. Кирпиченко
Кто видел, как Абд ат-Тавваб бродит по базару, съежившийся, недоверчивый, осторожный, как он торгуется, прикидываясь горемычным и жалким, тот не узнал бы его за воротами, когда он, раздувшись от гордости, решительно подгонял нового осла властными окриками и длинной палкой и оглядывался по сторонам с торжествующим видом.
Но не рано ли торжествовать?
Заприметили его дерзкие парни, братья Нуамани. Выбрали именно его среди десятков верховых и пешеходов, движущихся на базар или с базара. Один увязался за ним сбоку, другой забежал вперед и спросил с серьезным выражением на лице:
— Эй, сколько отдал за осла?
Абд ат-Тавваб взглянул на него ликующими глазами:
— А по-твоему, сколько он стоит?
Нуамани подошел вплотную к ослу, опытной рукой ловко начал его оглаживать и ощупывать. Сердце Абд ат-Тавваба трепетало от ожидания, ему не терпелось узнать, подтвердит ли встречный, что он сделал выгодную покупку.
Нуамани сказал:
— Хороший осел, ноги крепкие, зубы все целехоньки. Нет, нет, очень недурен, куда уж лучше. С покупочкой тебя… И спина крепкая. Так сколько ж ты отдал?
Просияв лицом, Абд ат-Тавваб нетерпеливо воскликнул:
— Ну, а по-твоему, сколько? Какая твоя цена?
— Я думаю, двенадцать фунтов.
Абд ат-Тавваб сердито нахмурился и искоса бросил на Нуамани презрительный взгляд:
— Двенадцать! Ты что, парень? Да сейчас дешевле восемнадцати кто отдаст, и цены-то такой нету. Мера кукурузы нынче почем, знаешь? Говори серьезно…
— Стало быть, четырнадцать?
Лицо Абд ат-Тавваба сразу же вновь просветлело, и к нему вернулось прежнее воодушевление.
— А! Так он и вправду стоит четырнадцать?
— Само собой. Дай-ка взгляну еще разок. Нет, нет, не дурен. Ну-ка, поверни его другим боком. Право слово, четырнадцать фунтов он стоит.
— Вот и мне так кажется. А купил я его за тринадцать.
Улыбаясь до ушей и блестя глазами, Нуамани сказал:
— Молодец, лихо ты фунт выторговал.
— Правда ведь? Я же и говорю, четырнадцать он наверняка стоит. Салям алейком!
И собрался было ехать дальше. Но Нуамани вцепился в него и завопил:
— Как это салям алейком?! Где у тебя совесть?
Абд ат-Тавваб уставился на него в крайнем изумлении:
— Что такое?
— Ну-ка плати, что мне причитается.
— Что тебе причитается, братец?
— Денежки за комиссию. Я тебе осла оценил? А ты хочешь зажилить мою долю?
Абд ат-Тавваб весь ощетинился и заорал:
— Какая такая комиссия, парень? Ты что, спятил?
Нуамани развел руками и огляделся вокруг, как бы призывая прохожих в свидетели.
— Ну и ну! Значит, норовишь прикарманить мои денежки? Клянусь аллахом, я тебе этого не спущу. Держите его!