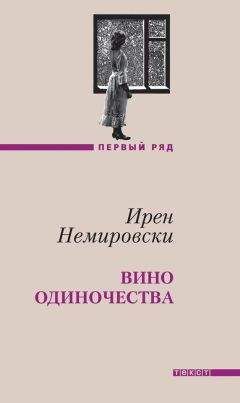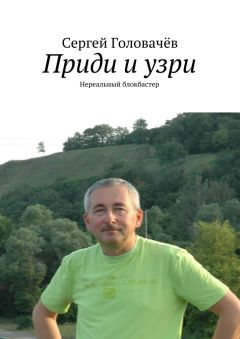Но дверь не открылась.
И я сидела в Германии, в Национальной библиотеке, и дома в своей комнате, склонившись над книгами, над основополагающими формальными элементами, вооружившись останками логики и желанием проникнуть туда, искала смысл в звучании, не только в семантике, но и в том, как слова вмещают опыт через звуки и ритм, через создаваемую ими картину. Искала следы. Где-то они должны были быть, ведь где-то должно быть то, что образует связь с этим большим и великим.
Я так и не смогла проникнуть в это. Сколько я ни читала, ни пыталась, ни старалась. Никак. Я стояла под вешалами там, у моря, и чувствовала, как ветер ударяет в лицо.
Я стояла в слабых, холодных лучах солнца там, в монастыре, в крестовом ходе.
А потом у двери в театральный зал Кристианы.
И каждый раз, каждый раз в моей жизни раздавался во мне этот внутренний крик.
Не говори мне, что этого не существует. Не уменьшай этого. Не делай малым и ничтожным. Что бы то ни было, каким бы оно ни было.
Пусть оно только будет. Позволь ему быть.
Раздался стук в дверь. Я взглянула на часы, прошло около часа. Мои щеки, нос, все лицо до подбородка были влажным и склизким. Я встала, взяла полотенце у умывальника и вытерла лицо, протерла глаза.
— Войдите, — сказала я. Это была она, в черном платье. Мы поздоровались. — Тебя ведь зовут Тюри, — сказала я.
— Да, — ответила она, — а ты Лив.
— Да, — сказала я.
Она спросила меня, все ли в порядке, ведь я ушла с выступления, и пойду ли я с ней прогуляться, остается полчаса до начала вечерней программы.
Меня передернуло. Не пойти ли нам, бабонькам, проветриться? Ясно же, что нам, теткам, всегда есть о чем поговорить, посплетничать о своем, о девичьем. Не то что с моими коллегами, пасторами-мужчинами, с которыми мы по крайней мере шесть лет корпели над одними и теми же учебниками и думали об одном. Сравнила! Они же мужчины со всеми их несравненными мужскими достоинствами, так что разница между их мышлением и моим неизмеримо, надо понимать, больше, чем между мной и Тюри. Бабы, они и есть бабы.
Лив, опомнись, она же не виновата.
Нет, она не виновата, я всегда это забываю. Забываю, что на теологических собраниях всегда было как бы два слоя, два уровня, мужчины разговаривали на одном уровне, куда меня не допускали, что бы я ни говорила или ни делала, у них были связи по другой линии. По мужской. Они смотрели друг на друга, обращались друг к другу. Я была одной из немногих женщин, а в Германии почти всегда единственной, на занятиях в той угловой аудитории во дворце. Да, Лив, diese Zusammenstellung, gibt es denn keine andere Möglichkeit?[14]
Было забавно, как они хвастались друг перед другом, советовали, анализировали, на что-то ссылались. А потом бросали быстрый взгляд вокруг, чтобы увидеть, поняли ли остальные этот изящный пассаж.
— Я иду, — сказала я, взглянув на подоконник, куда я поставила стакан с виски. Стакан был пуст.
На улице дул ветер, собирая снег в небольшие завитки. Я надела толстую, длинную куртку, шарф, натянула на лоб шапку и взяла варежки. На Тюри была черная шуба до лодыжек.
— Какое у тебя красивое и теплое пальто, — сказала я.
Она улыбнулась.
Мы вышли за пределы приземистых коричневых школьных построек и пошли налево, к центру. Там была церковь, но не та, что стояла здесь во время бунта. Разыгралась настоящая метель, и почти ничего нельзя было разглядеть.
Я шла и слушала Тюри. Ее было приятно слушать, у нее был звонкий и легкий голос. Она рассказывала о школе, о собраниях, в их приходе много пиетических лестадианцев[15].
Я вспомнила свою работу. Беседы перед крестинами и о душевных заботах, вечерние молитвы в церкви по средам. Визиты домой и конфирманты. Я взглянула на свои ноги рядом с ногами Тюри на белом снегу. Мы были так далеки друг от друга. И это расстояние касалось всего, все в нем исчезало, ускользало, я никак не могла ухватиться.
Нам в лицо падал сухой снег, мимо проехал автомобиль, довольно медленно, в нем были молодые ребята, они обернулись и взглянули на нас, а тот, что сидел на заднем сиденье, постучал в стекло и помахал рукой.
Я читала где-то, что в древней культуре саамов считалось, что дети вместе с именем своего родственника наследуют и черты его характера. Так что если ребенок заболевал или много плакал, думали, что неправильно дали имя. И тогда имя меняли. Так поступали не только с детьми, но и со взрослыми. Случалось, что люди меняли имя три или четыре раза, даже в семидесятилетием возрасте. До того конкретен был язык, что имя, слово заключало в себе значение и имело последствия.
Тюри приподняла варежкой рукав и посмотрела на часы.
— Нам пора возвращаться, — сказала она. — Следующий доклад читает пастор из рыбацкого поселка на острове.
Она взглянула на меня из-под большой шапки, на очках был снег. Она, наверное, ничего не видит, подумала я.
— Не знаю, — начала она и замолчала.
— В чем дело? — сказала я.
— Наверно, не следовало бы тебе об этом говорить, нет, мне кажется, ты должна знать. Этот пастор разослал всем письма с призывом не приезжать на семинар из-за тебя.
Я посмотрела на нее.
— Ведь ты, — сказала она, — пасторша, женщина-пастор.
Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.
Когда мы вошли в коридор, дверь в нашу классную комнату уже закрывали.
— Подождите, — крикнула я, — мы идем.
Мы побежали по коридору. Пальто Тюри развевалось по сторонам, ее шапка была вся в снегу, наверное, моя тоже. Я сняла ее и стряхнула снег. Мы вошли в комнату. Здесь было тепло.
Все взглянули на нас, я посмотрела на докладчика, который уже вышел вперед. Он был худощавый, маленького роста, в красном свитере с воротником под горло. Седые волосы зачесаны на один бок. Он посмотрел на меня злым взглядом. Я улыбнулась, пошла в угол, сняла зеленую куртку и шарф и положила на стул. Села, взяла в руки ручку и уставилась на него.
Он начал говорить о новом церковном порядке. Было не совсем ясно, что он имеет в виду. Он говорил что-то про женщин, про однополую любовь, про саамов. Говорил беспорядочно, так что было трудно слушать и понимать. В подтверждение своих доводов он ссылался на текст Библии, грозя тонким указательным пальцем. Он с таким же успехом мог бы говорить на каком-то другом языке, ссылаться на другие источники, потому что на самом деле раздражали его не женщины, однополая любовь или радость как таковая. Нет, его яростные выпады были направлены против чего-то другого, конкретного, возможно, у него были проблемы с женой или внутри его общины, а может, какие-то личные, внутренние, давнее унижение например.
Он подошел к моему месту и встал передо мной. Вид у него был разъяренный, щеки раскраснелись и пылали как два красных кругляша.
— Вот ты, — сказал он. — Разве у тебя есть власть от Бога? Почему ты думаешь, что что-то изменилось и слова апостола Павла сегодня не имеют силы? — Он смотрел прямо на меня.
Но мне показалось, что его злость проскользнула мимо. Не попала в цель. Она не имела ко мне никакого отношения, была слишком далека от меня, и поэтому не было смысла отвечать.
Он стоял прямо передо мной, я смотрела ему в глаза. По сути, его правда. Слово есть слово. И Павла, и Марка, и Матфея, и Иоанна. Псалмы, книги Иова и Иеремии.
Слова написаны, подумала я. Ну и что?
Я ничего не сказала.
В комнате стало совсем тихо, потом кто-то начал кашлять. Он кашлял и кашлял и наконец вынужден был встать и налить себе из крана воды в стакан. Народ зашевелился. Все расслабились. Устроитель встал и сказал, что объявляется перерыв на пять минут и в коридоре сервирован кофе. После этого будет еще одно небольшое выступление.
Все поднялись и завозили стульями по полу, но подо мной не было пола, если я встану и сделаю шаг, то полечу и буду падать и падать.
Мужчины один за другим пошли к выходу, у двери они задержались, ожидая своей очереди выйти из комнаты в коридор, выйти из самолета, войти в поезд. Они вышли, сошли на берег, трап втянули на корабль, он задраил двери и уплыл прочь.
Я посмотрела на свои руки, лежавшие передо мной на листе бумаги на столе, меня знобило, я вспомнила руки Марии на одной из картин: маленький Иисус лежит у нее на руках, но она не держит его, он лежит на ее руках как бы независимо от нее, как приклеенный, а ее руки лежат на коленях так же, как мои, пустые руки, ладонями вверх.
Я посмотрела в окно, ветер не утих, на улице было совсем бело, казалось, что снег падает одновременно и сверху, и снизу и кружится во все стороны.
Кристиана сказала как-то, что вся теология — это одна большая чушь. Регрессивная тоска, сказала она, взглянула на меня и улыбнулась. Мы были в моей комнате, она стояла у моего письменного стола и смотрела на мои книги.
Но вот перерыв закончился, мужчины вернулись в комнату, я надела куртку. Тюри принесла мне чашку кофе. По тебе видно, что ты замерзла, сказала она. Я улыбнулась и поблагодарила.