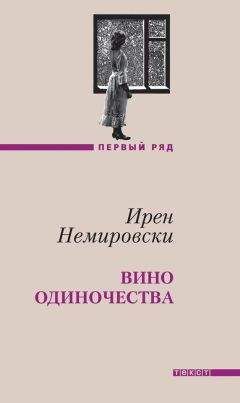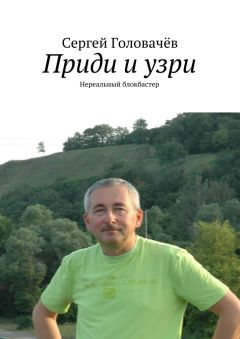Мы дошли до нового здания тинга, это Тюри предложила: оно, оказывается, получило какую-то там архитектурную медаль. На здании развевался яркий флаг с кругом. Перед зданием было много машин и ни одной живой души.
Потом прошли мимо церкви, где у нас в четверг будет прощальная церемония. Старый храм, стоявший здесь во время бунта, сожгли отступавшие немцы. А этот, новый, обсажен деревьями по всему периметру ограды, и они самые высокие в поселке — длинные ровные белые пятнистые березы. Кембрийская красота, сказала я Тюри. Повторила его слова.
Иногда я думаю, что хорошо бы задняя стена за алтарем была стеклянная, чтобы взгляд молящегося человека не упирался в образа, но проникал сквозь них, дальше. Таким должна быть и речь, и проповедь, и слово — не затеняющей смысл цельностью.
Снег хрустел под ногами, здесь было гораздо холоднее, чем у нас в городе, на побережье. Кто-то нагонял нас, сзади послышался визгливый скрип полозьев по притоптанному снегу. Это оказались две девчонки лет одиннадцати-двенадцати в юбках, выпущенных поверх синтепоновых штанов. Они не подняли на нас глаз, они не разговаривали друг с другом и шли, уставившись прямо перед собой. Я подумала, что это для них — единственная за несколько месяцев возможность покрасоваться в юбке.
А иногда мне, наоборот, нравилось, что в церкви есть стена позади хора и алтаря. Это придает законченность.
Мы подошли к воротам школы и интерната. Их, должно быть, построили в разгар норвегизации, после войны, когда считалось, что если заставить всех здесь, на севере, выучить норвежский, то это привьёт им норвежский образ мысли и поможет интегрироваться в норвежское общество. Тогда даже журналы бесплатно раздавали — с той же целью.
Это как с тем пастором, который окормлял здешний приход во время бунта, он ведь тоже был изначально не священник, а филолог, и он интересовался саамским и перевел на этот язык фрагменты Библии. Государство и тогда считало это полезным — мол, сплотит здешнее население. И верно, они стали норвежцами, начали платить налоги, а корона смогла заявить права на их земли.
А теперь у нас здесь пасторская встреча. И хозяин, местный священник, в своей вступительной речи рассказывал нам о бунте и говорил, что наша встреча тоже своего рода знак примирения. И мы подаем этот знак не людям с улицы, которые и не догадываются о семинаре, но самим себе, церкви, сказал он, и этот импульс братолюбия будет умножаться в наших каждодневных трудах, в жизни на приходах, по которым мы скоро разъедемся.
Мы дошли до дверей, Тюри потянула за ручку.
— Идешь? — спросила она.
Я покачала головой.
— У меня тут дела есть, — сказала я. — Увидимся.
Она кивнула, улыбнулась, помахала на прощание и, зашла в здание.
Какие у меня тут дела? Этого я не знала, но сказала правду: у меня было ясное чувство, что я не могу уехать отсюда, чего-то не сделав. Я ведь зачем-то сюда приехала, на машине, в такую даль, специально попросила приходского священника, любителя семинаров, отправить в этот раз меня.
Как может пастор говорить в проповеди о мире, когда Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел принести мир»?[16]
В январе за год до бунта после вечерней воскресной службы они предъявили пастору обвинение по четырем пунктам: он проповедует не ту истину, какая четко и ясно изложена в Евангелии. Он не справляется с обязанностями пастора и душепопечителя. Он ходит во тьме и невежестве. И поэтому, невзирая ни на преклонный возраст, ни на сан, он не может рассчитывать на уважение и смирение даже со стороны молодежи.
Пастор тут же списался с епископом и донес на них, своих прихожан, обвинил их в предвзятом и издевательском отношении.
Не мир пришел я принести на землю, но меч, сказано в Библии. Я пришел разделять.
Но тот пастор не помог им в этом, не научил. В его руках оказался не меч, чтобы разделять, а палка, чтобы разгонять пришедших к нему.
Ну а я? Что у меня за меч, для чего?
Я развернулась и пошла обратно по дороге, через поселок, свернула налево и побрела вниз, к реке. И пасторская усадьба, и дом лавочника стояли на яру на левом берегу реки. В то время весь двор лавочника был занят товаром: дровами и прочим. Теперь здесь не было ни дома, ни стен, ни развалин. Такой же пустырь и у нас между городом и фьордом — там нацисты выжгли все дотла. От дороги вглубь между домов отходила тропа, я пошла по ней, это оказалась укатанная скутерами колея.
Через некоторое время дорога начала спускаться вниз, к реке, делавшей здесь широкий изгиб. Я дошла до берега и ступила на заснеженный лед. Было тихо. По дороге проезжали машины, но в остальном тишина, и кругом бескрайний простор, плавные плоские очертания. Я легла на спину и стала смотреть на небо. Светлое-светлое. Я закрыла глаза. Стоило пошевелить головой, как снег под ней скрипел и хрустел.
Кто-то пел вдалеке. Я читала однажды о саамских именах, что они обозначаются не только словом, но и короткой припевкой, личным йойк человека, где сочетание звучания и тона рассказывает, кто он таков. Хотя ведь и в языке то же самое, иначе, конечно, но очень похоже, речь — это тоже мелодика и звучание, надо только слышать их, когда мы разговариваем или читаем. Слышать не одни слова, а всё вместе.
Пение приближалось. Я открыла глаза — кругом белый цвет, можно подумать, я уже на небесах, и ко мне идет воинство небесное. Я приподнялась и огляделась. По льду, с той стороны, где теперь саамский тинг, поднималась, следуя изгибам реки, процессия. В ней шли мужчины и женщины в саамских долгополых кафтанах, концы накинутых на плечи шалей трепал ветер, у мужчин на поясах висели ножи, отсвечивали серебряные броши и пряжки. Все пели.
Я снова откинулась на спину. Не пила я точно, может, заснула? Я зажмурилась, но звук не исчез, похоже было, что поют йойки. Я села и снова открыла глаза: сейчас шествие делало изгиб к дальнему от меня берегу. Их было много, человек пятьдесят — шестьдесят. Только теперь я разглядела женщину, она пятилась перед процессией с камерой на плече и снимала их. Поднявшись на взгорок, она махнула им рукой, и первые остановились, а за ними замерла и вся толпа, растянувшись по склону и вдоль петли реки. Я заметила, что она двигает камерой, выискивая ракурс. Да, с ее места получится отличный панорамный снимок, вся процессия, взгорок, изгиб реки и вдали новое здание тинга, а позади всего, за этим небольшим поселком, — открытый простор.
Маленькие лампочки на щите у самой двери горели и мигали. Я вошла и стояла, оглядывая помещение, я терла руки, и щеки с холода были как стеклянные. Заведение построили недавно, Майя показывала мне его фотографии в газете. Архитекторы использовали местные мотивы. С дороги оно казалось огромной саамской землянкой, стены и изогнутая крыша были отделаны дерном. Мы с Тюри проходили днем мимо, тинг здесь недалеко. В газете кафе сняли и с другой стороны, от реки, как я понимаю, — там все сияет стеклом, сталью и насыщенными цветами.
Посреди комнаты на полу в огромном железном поддоне горел очаг, как в летнем чуме. На левой стене были только окна поверху и ниже их ряд компьютеров с барными табуретками вместо стульев, это еще и Интернет-центр. Пара человек работала, устроившись за мониторами.
Огромная стеклянная стена выходит прямо на реку. Рассмотреть ничего за окном в темноте не рассмотришь, разве только представишь себе контуры, скорее даже угадаешь их в свете, льющемся из кафе. Летом наверняка стену раздвигают и можно выйти на волю, но сейчас все закрыто, вон сколько снегу намело у дверей. Я стала воображать, как стою там, на ветру, на снегу, и заглядываю в окна, из темноты они кажутся огромными зеркалами.
Я подошла к стойке и сделала заказ. Музыка гремела на полную. Один повторяющийся тон, который то повышается, то понижается через определенные, довольно протяженные, промежутки на фоне постоянных быстрых отбиваний ритма. Вот такую музыку слушает и Майя. Я взяла свой стакан, расплатилась, но садиться не стала.
Мы вместе поужинали в каминном зале. Потом была проповедь-диалог, два пастора толковали определенный текст и вели дискуссию в нашем присутствии. Я не слушала, а когда вспомнила это действо теперь, то подумала, что голоса их звучали как музыка, как двухголосие, тон которого идет то вверх, то вниз.
Затем была общая молитва, мы сидели на диванах вдоль стен, опустив головы и сложив ладони, а один из двух участников недавнего диалога молился вслух: мы попросили благословить завтрашние встречи и даровать нам мир.
Потом подали чай, кофе и нарезанные бисквиты, их принесла на блюде невысокая, полная, кривоногая женщина, она немного напоминала мать той девушки, я вспомнила их кухню с лампой дневного света на потолке, блики на стекле обращенного к фьорду окна, как она затеяла печь пироги. Эти бисквиты отчего-то смахивали на ее стряпню.