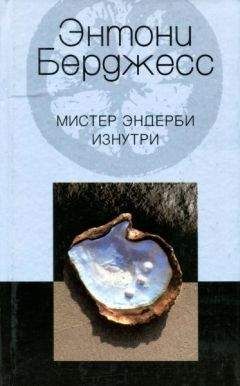Кто упомянул про любовь? Упоминал ли кто-нибудь про любовь? Жили они в целомудрии под одной крышей, как весталки, как феникс и черепаха, и Пит Бейнбридж из некоего Элизиума автогонщиков усмехался над странным дружеским сожительством. Но приходится только подбрасывать да глядеть, как крутится на натертом полу потертая монета, все громче и громче звякает музыкой, вертится, точно мир. Из кармана или из сумочки? Эндерби не помнил, но точно знал, что как-то вечером кто-то из них произнес это слово в той или иной связи, может быть, рассуждая о его инфляции в популярных песнях и в хриплых речах неотложной потребности, может быть, обсуждая его персонифицированную идентификацию с Богом в религиозной поэзии XVII века. Потом начался быстрый процесс, для анализа слишком тонкий и иррациональный, когда кто-то высвистел голубя-ястреба с безопасных высот спекуляций на першу, и в мгновение ока — на пару сомкнутых рук.
— Мне было так одиноко, — сказала она. — Так холодно по ночам.
Эндерби, потенциальный обогреватель постели, оставался по-прежнему потенциальным во время краткого полета к медовому месяцу, ибо жили они до сих пор в целомудрии. До сегодняшней ночи. Сегодня ночью в «Альберто Тритоне» на виа Национале. Чего-то, задыхался Эндерби, следует ждать.
— Эй, вы там, — сказал голос, имея в виду «послушайте». Эндерби приподнялся с крошечного седалища и послушал. — Билет не наделяет вас правом на безоговорочную монополизацию сортира. — Хорошо сказано, признал Эндерби. Голос американский и авторитарный, поэтому он поспешил уступить место, теперь вполне уверенный, что лучше себя чувствует. За складной дверью глубоко задышал, видя крупного мужчину типа туриста, с кивком мимо него протиснувшегося. Бифштексная физиономия и две камеры — соответственно фото и кино — на животе наготове. Интересно, задумался Эндерби, сфотографирует ли он сортир. В иллюминаторе засияла летняя тучка. Он шел по проходу к своей нареченной, холодной, прелестной, сидевшей, глядевшей на летнюю тучку. Она взглянула на него снизу вверх, улыбнулась, спросила, лучше ли ему. А когда он сел, протянула руку. Кажется, начинается новая жизнь.
Словно попав в хорошо оснащенную баню, Эндерби был потрясен разнообразными жидкостными ощущениями после посадки в Риме (снижения. Вечный Город: паста, старый хлам, монументальные развалины, каменные крепыши с фиговыми листочками, телятина, Ватикан, лестницы в подвалы, кости мучеников. Все крыто звонким серебром, освежается фонтанами. И желаем всего наилучшего). Он облился холодным потом, когда запоздавший со спуском желудок заставил хозяина увидеть Рим в неком мачехином контексте (папа на картинке на стенке спальни благословляет семь холмов; полупрозрачный образ святого Петра, вставленный в крест с четками цвета бланманже, закладка изданного в Риме служебника с изображением Святого Семейства в виде любителей спагетти среднего класса). Потом трепещущие струи согрели его, покрытая гусиной кожей рука, державшая новобрачную за руку, вновь разгладилась, когда в «Мировых новостях» вынырнуло изображение полногрудой старлетки, плещущейся шутки ради в фонтане Треви. Были там также потасканные красавцы князья, вовлеченные в пакостные бракоразводные дела; Чинечита крупней Ватикана. Собственно, все хорошо, все должно быть хорошо, волнующе, чувственно. Эндерби с гордостью глянул на новобрачную и почуял укол желания, подобный отдаленным слухам о войне, законного желания; на миг она идентифицировалась с этим новым городом, который предстояло, абсолютно законно, пустить на поток и разграбление. Он сказал ей несколько слов, вернувшихся из времен его службы в ВС[52]:
— Io ti amo[53].
Она улыбнулась и стиснула его руку. Эндерби, латинский любовник.
Тепло, волнение, чувство омоложения, благополучно пережитая посадка (стюардесса самодовольно ухмылялась на выходе, как будто сама после полетной беременности произвела аэропорт на свет; американец, который выставил Эндерби из сортира, начал отчаянно щелкать). В клочковатой процессии к зданиям Кьямпино[54], раскинувшимся в жаркой погоде медового месяца, Эндерби, как на чистой странице, видел на плоском голом летном поле формулу своей новой свободы, то есть освобождения от своей старой свободы. Тощий, как Кассий, и мрачный, как Каска[55], таможенник-римлянин грубо дернул «молнию» саквояжа Весты и продемонстрировал всему залу новую ночную рубашку. Мрачно подмигнул Эндерби, что тот принял за доброе предзнаменование, хотя лицо у мужчины было изголодавшееся, и поэтому он доверия не заслуживал. Жирный водитель автобуса, трясясь по Аппиевой дороге, пел какую-то масленую заунывную арию с amore[56], вызывая тем самым доверие. А потом — у-ух! — опять холодная вода, когда солнце заволоклось тучами над мшистым акведуком, развалиной выросшим из сухой травы над старыми плитами, лежавшими, как крупные лепешки дерьма, под рекламой бензина в полосатых комических красках. Американец из сортира кормил свои камеры, словно усевшихся на коленях ручных собачек. Тем временем Эндерби все больше угнетало ощущение путешествия по мясницкой лавке дурной истории средь ребристых скелетов, уже насильно напичканных кусками гнилой империи. Сразу за пределами поля его зрения спокойно стояли ростры, на которых покоились в виде какого-то хора Сенеки усмехавшиеся безносые древние римляне, разжиревшие на сицилийской кукурузе и на крови гладиаторов. Они будут присутствовать в медовом месяце; это их город.
По прибытии к аэровокзалу на виа Национале солнце вдруг полыхнуло пожаром на сиропном заводе. Неимоверно сильный карлик-носильщик донес их вещи до отеля всего за несколько домов, и Эндерби дал ему на чай слишком легкие подозрительные монеты. В вестибюле отеля их с поклонами встретили и приветствовали неискренними золотыми улыбками.
— Синьор Эндерби, — сказал синьор Эндерби, — и синьора Бейнбридж.
— Нет-нет-нет, — сказала синьора Эндерби.
— Еще не привык, понимаете, — улыбнулся Эндерби. — У нас медовый месяц, — объяснил он администратору, суетливому римскому карлику, который подхватил:
— Медовый месяц, а? Я шчитал, все вовсем раззабыли про медовый месяц. Давно у меня не бывало медового месяца, — с сожалением признал он.
— Слушайте, — сказала Веста, — я не совсем хорошо себя чувствую. Нельзя ли проводить нас… — Мгновенно раздались крики, началась беготня, перетаскиванье чемоданов.
— Дорогая, — сказал озабоченный Эндерби. — Дорогая, в чем дело?
— Устала, и все. Лечь хочу.
— Дорогая, — сказал Эндерби.
Вошли в лифт, сплошное рококо филигранной работы, в хрупкую воздушную клетку, поднявшую их на этаж, вымощенный венозным мрамором. Эндерби с интересом увидел открытый римский туалет, но отмахнулся от интереса. С теми временами покончено. Номер им показал молодой человек в пиджаке винного цвета с плоско расплющенным носом, вопиющим противоречием мифу о римском профиле. Эндерби дал ему несколько ничего не стоящих кусочков металла и спросил vino. (Эндерби заказывает vino в Риме.) Молодой человек яростно замахал руками сам себе, потом с напряжением поднял одну, стиснув зубы, словно тягал смертельную тяжесть, демонстрируя Эндерби пространство между ними, — бутылку воздуха с рукой-донышком и рукой-горлышком.
— Фраскати, — зловеще кивнул он и вышел, кивая.
Эндерби повернулся к жене. Та сидела на обращенном к окну краю двуспальной кровати, глядя на виа Национале. Комнатка была полна уличным шумом — лязг трамваев, конский топот, «фиаты», «ламбретты».
— Устала, устала, устала, — проговорила Веста, снова с синими дугами под глазами, с утомленным в резком римском свете лицом. — Совсем никакая.
— Это не?.. — осведомился Эндерби.
— Нет, конечно. Сегодня ведь наша свадьба, правда? Все будет в полном порядке, когда отдохну. — Она сбросила туфли, и — Эндерби сглотнул — быстро стянула чулки. Он отвернулся к скучному виду улицы: столичная строгость, никаких сверкающих южных зубов, никаких песен. В магазине через дорогу, будто нарочно для Эндерби, специально выставлены в витрине уцененные религиозные образы, дурно раскрашенные агиографии в фестонах из четок-бусинок. Когда он опять повернулся к постели, Веста уже лежала с непокрытыми тонкими руками и плечами. Не пышная женщина; тело соответствует допустимому женскому минимуму. Так и надо. Эндерби однажды застал мачеху пыхтевшей от напряжения, раздевавшейся в ванной в одном из редких случаев мытья целиком, с трясущейся плотью, с болтавшимися, словно колокола, грудями. Он содрогнулся при воспоминании, губы его, произнесшие «б-р-р-р», на миг стали мачехиными, трясшимися от холодной губки. Раздался стук. Эндерби читал Данте с английским подстрочником; и знал: там есть строчка со словом «войти». Принялся рыться в памяти и обнаружил его в тот момент, когда дверь отворилась.