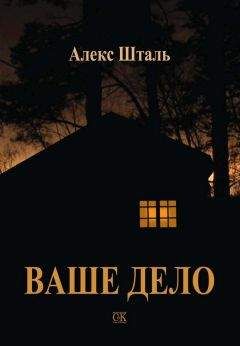И ещё, она здорово не доверяла Сашкиным родственникам, жившим в деревне, насмотревшись на его родителей здесь, в Москве.
– Связался с какими-то «барачниками»! – в ужасе кричала моя мама. – Сначала ты с ними по деревням отдыхать научишься, а потом они тебя и пить научат!
Мама называла «барачниками» почти всех, кто жил рядом с нами в новых домах, построенных на окраине города. Конечно, она была отчасти права. Вчерашние деревенские девчонки и ребята, приехавшие работать на московских предприятиях, здорово отличались от коренных москвичей как интеллектом, вернее, почти полным его отсутствием, так и своим поведением, особенно в выходные и праздничные дни.
Наспех, да спьяну переженившись, они получили комнаты в общежитиях, которые, по сути, были рабочими бараками, тянувшимися вдоль заборов предприятий, где и работали эти лимитчики, прилагавшие все усилия, чтобы стать москвичами.
Сашка, мой приятель, был вторым ребёнком в семье «барачников», «настрогавших», – как говорил мой отец, – ещё одного мальца, которого не хватало для получения трёхкомнатной квартиры.
В конце концов, переговорив с его родителями, мои папа и мама всё же решили отпустить меня, купившись на здоровый воздух и натуральное питание. Здоровьем-то я похвастаться не мог! А тут предлагалось совершенно бесплатно «откормить мужика», – как говорила Сашкина мать, да и моим родителям давно хотелось разнообразить мой летний отдых, а тут подвернулась альтернатива пионерскому лагерю.
И мы с Сашкой стали собираться в деревню.
Многочасовая поездка в электричке, необычные попутчики из числа деревенских, пейзажи, сменявшиеся как кадры в фильме, – всё это было только первыми впечатлениями городского мальчишки, решившегося на такое путешествие без родителей, хотя и в сопровождении Сашкиного отца.
Дядя Коля был молчаливым, строгим мужиком. По сравнению с моим отцом, пускавшимся в длинные, путаные рассуждения, отец Саньки, изрекал короткие, но сразу всем понятные афоризмы, даже не догадываясь о существовании такого слова, как «афоризм».
Я знал, что не со всяким вопросом можно к нему обратиться. Всё же сильно сказывалась его провинциальная ограниченность, когда речь заходила о «высоких материях». Как он сам о себе в таких случаях говорил: «Не хватает мне этой вашей «нтелигентности», – с большим трудом, неправильно произнося слово «интеллигентность».
Дядя Коля не был запойным алкашом, но «по случаю» надирался, как положено. Привезя нас с Санькой в деревню, он отметил это дело со всеми обязательными для полноценной пьянки подробностями. Я и сейчас хорошо помню, как он, отчитываясь за «вчерашнее», объяснял своей матери, Сашкиной бабушке, что «Натолкал в торец Жорке за то, что тот клеился к его Анютке ещё в школе. А потом этот Жорка, вместо того, чтобы пойти на фронт, как всякий нормальный мужик, прикинулся больным и совратил невинную деваху». Бабушка ругала дядю Колю, называла его злопамятным, но он всё равно стоял на своём: «Если бы этот симулянт на Анютке не женился бы, я бы его прибил давно», – напугав мать, закончил он.
Этот эпизод, хоть и запомнился мне на всю жизнь, но не произвёл на меня такого сильного впечатления, как всё остальное, что с нами происходило в то лето.
Отец Сашки уехал вечером в воскресенье в Москву, ему надо было утром на работу. Прощаясь с нами на мотовозной станции, он вдруг, положив руку мне на плечо, сказал:
– Ты, Мишка, присматривайся тут ко всему. Люди тут неплохие, хотя, конечно, – тёмные, деревенские, но самым неожиданным образом могут научить тебя жизни. Так всегда бывает с вашим братом, с городскими, то есть. Я-то знаю.
Он уехал, и мне ещё несколько дней казалось, что вот сейчас произойдёт что-то, что научит меня жизни. Что вдруг стану я сразу всё понимать, и все будут ходить ко мне за советами.
Но ничего особенного не происходило, и я быстро переключился из режима ожидания в режим летних каникул.
Нам с Санькой разрешалось делать всё! Мы могли полдня проваляться на крыше, загорая и одновременно наблюдая за скольжением ласточек по голубой глади неба. Могли, прихватив удочки и банки с червями, пропадать часами на речке.
Сашкина бабушка откармливала нас парным молоком, свежеиспечённым хлебом домашнего производства и супами, в которых, как она говорила – черпак стоймя стоит. Огромные куски тушёной парной телятины поедались мной совершенно запросто! Разве мог я, вскормленный тряпкоподобной, размороженной – магазинной – говядиной, подумать, что мясо может быть вполне съедобным и удивительно вкусным! В дополнение к тому, чем нас потчевала бабуля, мы постоянно грызли морковь, только что выдернутую из грядки, ели лук с ароматным чёрным хлебом и запивали всё это чистейшей колодезной водой. Мы набирали вес и приобретали здоровую розовощёкость, которая потом сошла за две недели пребывания в загазованной Москве.
Новая обстановка, новые знакомые, здоровый воздух и откровенное безделье, к моему удивлению, открыли во мне способности совершенно по-новому всё воспринимать, думать и, самое главное, – анализировать всё то, на что раньше я даже не обращал внимание.
Совершенно новые, неожиданные для нас с Сашкой темы, стали предметами наших с ним разговоров, которые не прекращались до поздней ночи.
Даже по прошествии нескольких десятилетий, я не перестаю удивляться тому, как сильно меняется человек, прожив каких-то полтора месяца на природе. Что ни говори, а наша оторванность от естественных, природных условий превращает горожан в совершенно другую породу людей.
Мы с Санькой загорали, купались, дурачились почти два месяца, пока из Москвы не пришло известие о том, что дядя Коля убит пьяным Жоркой, приехавшим на выходные из деревни в Москву, чтобы свести старые счёты со своим злопамятным земляком, два месяца назад «натолкавшим ему в торец».
В те дни, пока отпросились с работы и, наконец, собравшись, приехали за мной папа и мама, я был свидетелем горя Сашкиной бабушки. Самое удивительное, что сам Сашка, как мне показалось, так ничего и не понял. Или у его психики включилась какая-то защита? Он ни с кем из взрослых не разговаривал и продолжал вести себя так, как будто ничего с его отцом не произошло. Вот тогда-то я и подружился по-настоящему с его бабушкой, став ей сразу и внуком, и сыном, и утешителем. Мне же казалось, что, если я перестану ей во всём помогать, утешать её и выслушивать её иногда трёхчасовые монологи, она будет голосить как деревенская тётка из фильма про войну, получившая похоронку.
К своему внуку после гибели сына она стала относиться почти как к чужому ребёнку. «Валькина порода» – стала называть она Сашку, который, то ли сам, то ли, будучи наученный своей матерью, Валентиной, тоже заметно охладел к бабушке.
Больше Санька в деревню к бабушке на лето не приезжал. Став постарше, он иногда ездил по осени помогать ей выкопать картошку. Да и то, как она говорила: «Пропьёт две недели, картошки себе накопает и на целый год пропадёт».
Несколько раз я приезжал с ним. Вот меня она почему-то встречала как родного и, со временем, я стал там бывать довольно часто один, а иногда и с женой. Мне очень полюбились те места, а с некоторыми людьми у меня даже было что-то похожее на дружбу. Мы во время моих приездов ходили на охоту и рыбалку, ночевали в лесу у костра и травили бесконечные байки.
А когда Сашка отравился суррогатной водкой и умер, баба Катя, так звали его бабушку, попросила меня иногда ей помогать. В деревне к тому времени почти никого не осталось. Только пара местных дурачков, да пенсионеры, которых не забрали в город, или те старики, у которых вообще не осталось родни.
Разработка торфяников, кормившая население всех окрестных деревень, прекратилась, как и многое, что в те дни прекратилось в нашей стране, и опустевшие, без электричества, без магазинов и даже без медперсонала деревни вымирали год за годом. Страшная это была картина. Непривычная.
Со временем, пустые деревни стали восприниматься мной как что-то, через что должно было пройти население этой, так и не поумневшей страны. И я приезжал к бабе Кате, когда раз в год, а иногда и два-три раза за год, в зависимости от свободного времени, настроения и, конечно же, – здоровья.
В последний раз я был там две недели назад. Бабка за последние двадцать лет внешне почти не менялась, вот только высохла совсем. Да ещё постоянно жаловалась на «рюматизьм», как она называла мучавшие её боли в суставах.
Я помог бабе Кате с картошкой и вообще, по хозяйству. Выслушал её, ставший традиционным последние лет десять монолог о том, что вот, дескать, внуков у неё нет, а то, наверно, помогли бы старухе. Сокрушалась, как всегда, по поводу здоровья Марины, так и не позволившего моей жене стать матерью.
Баба Катя уже не спрашивала меня про политическую обстановку в мире. Видимо, наступает всё-таки такой возраст, когда даже деревенская бабка начинает понимать, что игры политиков – полная чушь. Зато вопросы духовного плана её очень даже интересовали, но, слава богу, в деревне не было возможности смотреть телевизор, а то, я думаю, она давно бы от инфаркта скончалась, насмотревшись на современную «духовность».