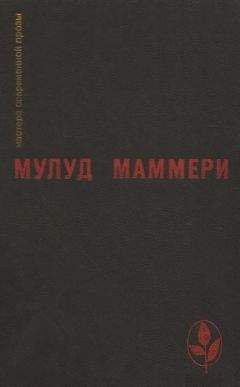Благоразумие требует продвигаться как можно скорее, пока не разразился новый буран. Мокран это сознает и все-таки не торопится. Он идет словно во сне, ровным, неспешным шагом — как человек, который знает, что шествует навстречу своей судьбе.
Под его грубыми башмаками на шипах ритмично скрежещут камушки. Он рассеянно прислушивается к этому однообразному, сухому, бесконечно повторяющемуся звуку, который убаюкивает его и позволяет ни о чем не думать. Скрип сменяется скрипом, и все внимание Мокрана занято повторением этих звуков. Он даже не смотрит на пейзажи, открывающиеся перед ним, не слышит вокруг себя ни ветра, ни грохота.
Но вот где-то позади, в ритм его шагам, начинает звучать слабый мелодичный женский голос:
— Раз: ведь я… Два: твоя жена.
Он оборачивается, ничего не видит вокруг, блаженно улыбается и шагает дальше. Крт… крт… — поскрипывают тяжелые башмаки. Завывает ветер.
Вдруг в ушах его раздается громкий гневный голос:
— Ведь я твоя жена.
Он опять резко оборачивается — и снова ничего; это порыв ветра треплет деревья, призрачные очертания которых слабо проступают сквозь темноту. Глаза его смыкаются от усталости. Несколько раз он собирался бросить сумку и бурнус, чтобы легче стало идти, но как же обойтись без теплой одежды, в такой холод и как остаться без еды?
Вскоре он добрался до лавины, которая ночью преградила им дорогу; он сел отдохнуть, прислонясь к откосу.
По всему телу его разлилось какое-то умиротворяющее ощущение. Голос умолк, лишь изредка еще слышался ласковый, нежный, еле уловимый шепот:
— Ведь я твоя жена.
Он так устал, что вскоре веки его сомкнулись. К впечатлениям минувшей ночи примешивались какие-то причудливые образы. Он уже совсем было уснул, как вдруг вскочил весь в испарине.
Перед ним в свете зари белел хаос острых утесов, тесных лощин, отвесных обрывов; несколько деревьев вздымали к небесам истрепанные бураном, обезумевшие ветви; прямо напротив огромный зазубренный утес, высившийся над остальными, отбивал бешеные порывы ветра. Мокран зажмурился, чтобы не видеть всего этого, потом опять открыл глаза; на выступе скалы он ясно увидел женщину в длинном платье с обтрепанным подолом. Руки ее были широко раскинуты, рот открыт, губы растянуты, черные глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Крючковатые пальцы она сжимала, как клешни.
Ее облику вполне соответствовал голос — такого Мокрану еще никогда не доводилось слышать. Ни стенания старух над покойником, ни отрывистые жалобы плакальщиц не могли бы сравниться с ледяным, жутким, безликим звуком, который заполнял всю окрестность, то был долгий, однообразный вопль, внушавший ужас. И голос говорил:
— Мокран, сын Шаалалов, на кого ты меня оставил?
Он вскочил; что-то сдавливало ему грудь, в глазах стоял образ этой надменной гарпии с всклокоченными волосами, а в ушах слышались последние, бесконечно протяжные звуки последнего слова «оставил»: а… а… ви… и… и… л… Очнувшись, он облегченно вздохнул и с удовлетворением взглянул на пик Тамгут, временами выступавший из-под облаков. Мокран был как будто благодарен этому пику за то, что тот стоит на месте, одинокий и нагой, за то, что на нем ничего нет, за то, что он незыблем, неприступен и по-прежнему хранит облик, к которому Мокран привык с детских лет.
Он нащупал сумку, взял ее обеими руками, чтобы убедиться, что все еще находится в мире, где вещи не лишены плотности и веса. Потом вытер рукою лоб, по самую шею завернулся в бурнус и стал перебираться через завал. Идти было нелегко. Он то по колено проваливался в снег, то катился на несколько метров вниз вместе с камнем, на который думал было опереться. Оказавшись наконец по ту сторону завала, он стал яснее различать все кругом, но почувствовал невероятную усталость.
Мокран решил еще немного передохнуть, прежде чем снова пуститься в дорогу; он старался широко раскрывать глаза, чтобы не видеть ничего, кроме действительно существующего. Однако его вскоре опять стало клонить ко сну, и в ушах раздалась та же жалоба, но теперь голос звучал еще более сердито:
— Ведь я твоя жена.
Он поспешил открыть глаза. И опять только ветер ревел у него под ухом, врываясь в опустевшую сумку. Но Мокран уже выбился из сил. Взор его затуманился. Мысли путались. Теперь он уже не отличал Аази от той женщины, которая представлялась ему в забытьи. Он подобрал валявшуюся на дороге суковатую кедровую палку и стал торопливо карабкаться вверх. Пошел дождь, мелкий, частый; однако чуть погодя он прекратился.
Холод стал невыносимым. Мокран то и дело дышал на руки, чтобы отогреть их, но пальцы у него все-таки не сгибались. Порыв ветра закинул ему край бурнуса на голову. Он поскользнулся и ударился о скалу. Пытаясь ухватиться за нее, он ободрал себе руку; головой он сильно стукнулся обо что-то острое, на лбу появилась кровь, кожа над бровью была рассечена, рана болела и вспухла. Мокран на ходу беспрестанно прикладывал к ней окоченевшие руки. Острый кремень прорезал подошву его правого башмака, и теперь вода забиралась туда и хлюпала. А вокруг беспрерывно раздавался все тот же голос:
— Ведь я твоя жена…
Но Мокран уже не обращал на него внимания, он шел теперь быстрее, чтобы согреться, а главное оттого, что знал: резкое похолодание предвещает снег. Надо миновать перевал до того, как начнется метель, да и идти уже было недалеко. А о тех, с кем он расстался прошлой ночью близ Тала-Ганы, вовсе не думал.
Ветер стих, и немного погодя перед Мокраном зареяли редкие, пышные хлопья снега, похожие на медленно и плавно летающих бабочек. «Пройти перевал, пройти перевал», — скрипели под его башмаками мелкие камешки. Вскоре белые стрелки, бороздившие воздух в разных направлениях, заполнили все пространство. Крупные хлопья описывали в воздухе сложные, неожиданные кривые и осторожно опускались на землю, чтобы здесь умереть. Зато градины, наоборот, летели по прямой линии и с шумом ударялись в каменистую почву. Мокрану казалось, будто воздух стал плотнее и с каждым шагом ему приходится рассекать толстый слой ваты. Он тяжело передвигал ноги, словно на них висели гири.
Когда он достиг перевала, снег уже забелил все кругом. Небо было все в облаках, и только по светлому пятну в одном месте можно было догадаться, где солнце. У ног Мокрана раскинулся весь кабильский край. Вершины гор развернулись, как лепестки веера. Снег до них еще не добрался. Счастливцы, живущие внизу, не ведают тех бурь, что свирепствуют на высотах.
Ветер неистово врывался в расщелину. Мокрана со всех сторон охватывал вихрь, необузданные, бешеные порывы которого несли в себе бесчисленное множество снежинок. Мокран долго не мог прийти в себя, тщетно стараясь отдышаться. На выступах хребта, уходившего в сторону его племени, виднелись селения, коричневато-серые, как земля. Тут и там из труб валил дым: снег внизу еще не выпал, но холод уже предвещал метель. Люди жались к печам; как приятно в предвидении бурана чувствовать себя не одиноким. Тут собрались все. Скот они благоразумно загнали в овчарни. Припасли ячменя, пшеницы, сена, соломы, масла, дров. Теперь легко переждать ненастье, а когда в воздухе появятся первые снежинки, дети будут водить хороводы и петь:
Снегу ниспошли аллах!
Чтоб лежало на полях
Одеяло белое,
Чтоб сидели мы в углах,
Ничего не делая.
Только ели, только пили
Да еще волов кормили.
Долина! Он представил себе славный огонь, разведенный в очаге, и друзей, занятых беспечной болтовней. Ему захотелось поскорее избавиться от всех этих мук, самому устроиться где-нибудь в уголке, среди близких, не ощущать больше собственного тела, истерзанного болью и страданием, а главное — не слышать голоса, который звучал в порывах ветра, плакал в расщелинах скал, гремел в раскатах грома или замирал в снегу под его шагами:
— Ведь я твоя жена.
Его охватило такое острое желание окунуться вместе со всеми в легкодоступное счастье, что он снова, с трудом подняв голову, стал смотреть в ту сторону, где жили счастливцы, и вдруг в самой дали, на последнем холме, замаячила Тазга, еле различимая на таком большом расстоянии. Мокран простер руки, снова хотел дотянуться до родной деревни, потом крикнул, как ему казалось, очень громко:
— Аази!
Но, к великому его удивлению, эхо не повторило призыва, хотя в горах оно всегда раздается очень четко и раскатисто. На самом же деле ни единого звука не сорвалось с его окоченевших губ. Да и все равно призыв его потонул бы в белом безмолвии или в реве бурана, который не давал ему дышать, чтобы передохнуть, приходилось закрывать рот полою бурнуса.
И все же Аази услыхала его, ибо он ясно увидел, как она несется к нему, подхваченная порывом ветра. Она спокойно улыбалась, как и прежде, и словно летела над снегом, не оставляя за собою следов.