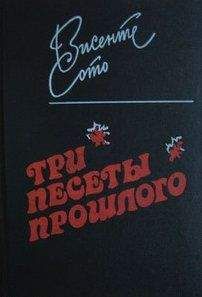Морено — В тюрьму. Как только кончилась война, сразу начались аресты. Нас всех арестовали и посадили в тюрьму.
Бофаруль — Кто вас арестовал?
Морено — Ну, кому же было нас арестовывать. Эти самые…
Бофаруль — Возможно, в одном случае это были военные части, занимавшие какое-нибудь селение, в другом — гражданская гвардия, в третьем — фалангисты…
Морено — Так оно и было.
Бофаруль — А здесь, в вашем городке, много было фалангистов?
Морено — Фалангистов-то? Да нет, совсем мало. Немного.
Бофаруль — Понятно.
Вис — Ну а вот раньше…
Морено — Да нет, нет.
Бофаруль — Многие погибли в войну?
Кандидо — Здесь похоронено шестьсот.
Бофаруль — Нет, я о тех, что раньше. В войну…
Вис — Из правых.
Кандидо — Трое.
Бофаруль — Трое…
Кандидо — И то не из наших. Но знал бы ты, что у нас был за народ.
Бофаруль — Трое…
Кандидо — Только трое.
Вис — А левых потом, после войны…
Кандидо — Шестьсот их тут похоронено.
Вис — Шестьсот. И все здешние?
Кандида — Нет, не все.
Морено — Не только из нашего города, а со всех окрестных селений.
Кандидо — Из всей округи.
Морено — Из всего округа Вильякаррильо.
Вис — И наверное, в округе и казненных правых больше, чем здесь.
Морено — Этого я…
На этом встреча закончилась. Все заговорили разом, чувствовалось, что дело идет к концу. Однако Бофаруль по просьбе Кандидо начал читать письмо. Это было письмо, в котором Педро сообщал, что седьмого (а было уже шестое) состоится перенесение останков его отца. Кандидо и Кандида приглашались принять участие в церемонии. Это было письмо, в котором, как счита.а почему-то Кандидо, называлась цифра: шестьсот расстрелянных. Он прочел эту цифру, она ему запомнилась, и он видел ее в каждой строке письма и даже между строк. Несомненно, на нее обратил внимание и Бофаруль во время чтения. Педро отмечал, что никто из расстрелянных и погребенных, “как местных жителей, так и жителей других селений, входивших в судебный округ, за исключением моего отца", не был зарегистрирован. Я убедился в этом, еще раз просмотрев регистрационную книгу на кладбище. Неслыханно!” Это обстоятельство для Кандидо представляло собой суть всего письма, оно восполняло отсутствие шестерки с двумя нулями, что и для других превращало всю эту историю в один-единственный документ.
Все встали, вышли из-за стола с жаровней. У жаровни все-таки было чуточку теплей.
Вышли на улицу. И без того замерзшие, окунулись в ночную сырость.
И это небо. Здешнее небо. Черное-черное в глубине, но все-таки с проблесками света. Горсточки звезд, букеты звезд, целые охапки звезд проблескивали голубыми искрами. Огромные звезды. И такие близкие.]
Перед нишей, уже закрытой, Педро говорил:
— Эти волнующие минуты — наша дань уважения настоящему социалисту, мужественному и непреклонному.
Вис подошел и стал слушать.
Но Педро больше ничего не сказал. Ниша была закрыта временной дощечкой, и какая-то из местных женщин с облегчением сказала:
— Теперь он действительно покоится. Здесь ему покойно.
И на сыром цементе палочкой вывели: “Антонио Муньос Каюэлас — умер за свободу 12.12.1939”. Мужчины пожимали руку Педро, и Вис тоже пожал, но как раз в это мгновение он видел, как слегка прихрамывающий незнакомец направляется к выходу с кладбища — удирает от него. Нет, кричать неудобно, пойду за ним, сейчас освобожусь и пойду. Тот все удалялся и удалялся, и Вис подумал, что, даже рискуя его упустить, он не может не проститься с Педро так, как Педро этого заслуживает. И сказал:
— Вы не представляете, как я рад… Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами.
— Большое спасибо, — ответил Педро.
И Вис дал Педро свою карточку, а тот дал ему свою, а потом Вис крадучись, но быстро ринулся в погоню за тем, от кого раньше чуть не убежал, и, нагнав его, сказал:
— Погодите минутку. — И слегка прихрамывающий незнакомец вздрогнул и, припав на больную ногу, остановился, после чего Вис тоже остановился и продолжал: — Сегодня вечером, попозже, не знаю точно, в котором часу, после ужина, я, может быть, смогу с вами встретиться. Ждите меня в баре гостиницы. Не знаю, смогу ли я прийти. Сегодня вечером. Если успеем вернуться из Кастельяра, если мне удастся уйти от остальных, если…
Что-то в таком роде сказал ему Вис. И повернулся, хотел идти обратно. Он знал: нужно отойти от незнакомца как можно скорее. И в самом деле, вдали ой увидел направляющихся к выходу своих спутников и — нет, нет, он ничего не сказал, правда, я его сразу же оставил, но думаю, он придет, а если я не смогу, что ж… идиот, я же не сказал ему, в какой гостинице остановился, впрочем, едва ли их здесь много, к тому же этот человек все про всех знает, а если нет, пусть разузнает, я больше не могу, пока что еще и сам не знаю, не сделал ли я глупость, а в общем-то, никто меня не заставляет идти на встречу с ним, — и Вис рукой показал Бла, что он возвращается.
А когда он вышел на улицу, где его ждала Республика, люда не умещались на мостовой, взбирались на крыши трамваев и повозок, и на фонарях висли не только флаги, но и люди, а воздух сотрясали крики “ура!” и неизвестный ему до тех пор гимн. Проталкиваясь в толпе, он мало-помалу глубоко осознал, что и сам он — живой мазок истории, что и в нем горит тот же огонь, которым освещены тысячи лиц, заполнивших, как писали потом в газетах, принадлежащую народу улицу (а потом она оказалась безлюдной, а для улицы это хуже всего — остаться без людей, а еще, чего доброго, заполниться другими людьми. Значит, есть и другой народ? А куда потом девался тот, что не умещался на улице?).
Но как раз в те дни Висенте обнаружил, что ноги его обросли волосами — это же признак возмужания. И низ живота. И это поразило его еще больше, чем Республика с ее знаменами, речами и криками “ура!”. Но вот одно приводило Висенте в полное уныние: он, мужчина, ходил до сих пор в коротких штанах. Да и как могло быть иначе в неполные двенадцать лет. Висенте это глубоко переживал. Такое чудесное открытие — и короткие штаны. И это еще не все: то ли потому, что ноги у него стали слишком длинными или слишком волосатыми, то ли что там еще, но частенько девочки, завидев его, шушукались и хихикали. А может, ему так казалось? Но вот как-то привратница, подметавшая панель у подъезда, перестала мести и уставилась на него. Ну да, это было как раз в те самые дни. Вот ведьма, постояла, опершись на метлу, да и сказала: послушай, паренек, скажи-ка ты своей матери, чтоб она их тебе удлинила хотя бы малость, а? И сказала это вроде сердито. Вот зараза. Только этого и не хватало. Он уже не раз устраивал мамочке сцены по поводу коротких штанов. Стыдно на улицу выйти, не пойду больше, и все тут. А мать смеялась. Да ты же у нас одет как наследный принц. Ну при чем тут наследный принц? А в тот день, когда эта стерва, привратница…
он даже захныкал. Не то чтобы заплакал, нет. Просто ему жутко надоело. А мать и отец — да, конечно, надо что-то предпринять. И вот нежданно-негаданно для самого себя он заявил:
— А еще вот что: пожалуйста, зовите меня Висенте, а то все Титин да Титин, будто я годовалый младенец.
Опять же они не возражали, пусть будет Висенте — и в самом деле, хоть и не без труда, стали называть его Висенте. А со штанами все осталось по-прежнему. Пустая болтовня. Еще целый год, а то и больше ходил наследным принцем. И ничего не случилось. Однако в это же время у него родилось неодолимое желание искать себя самого в удивительном мире, который представал перед ним в неповторимую пору — весну его жизни (подумай, о чем ты говоришь, умолкни), да, весну его жизни. Разве мог кто-нибудь унять это его желание? Тут уж хочешь не хочешь, а непонятная симфония истории переходит в небесную музыку! Ведь в это же самое время девочки из его класса — не говоря уже о девочках из старших классов — покрывались золотистым загаром, как золотятся под солнцем поля, наливались и округлялись у тебя на глазах (при виде их тебя охватывала истома, подобная той, какую испытываешь в знойный день, лежа под тенью апельсинового дерева и слушая тихое журчание воды в оросительной канаве), и эти девочки тоже искали себя в своих неповторимых веснах, гонялись за жар-птицами, хоть и страшились их. И были непроторенные тропы, которые вели из одних весен в другие и, перекрещиваясь, создавали лабиринт, царство бессонницы, в котором ты мог только грезить, а спать или отдыхать не было никакой возможности. Куда там — только грезить наяву. И конечно, им нужно было бегать за этими совсем еще зелеными девицами, влекущими к себе как дьявольское наваждение, но пока что бегали они веселой компанией, потому что были совсем еще юными, почти все еще ходили наследными принцами, плевать, вместе не страшно, но при мысли остаться с женщиной наедине юные мужчины дрожали от страха. Лучше встречаться с ними в своем воображении, следуя перипетиям какого-нибудь порнографического романа. Они-то называли такие романы “плутовскими”. Книжонки эти вдруг появились откуда-то и начали переходить из рук в руки. На обложках и иллюстрациях — убийственные женщины с такими пышными формами, что… На них обязательно было что-нибудь надето: то легкое платье, то сорочка с кокеткой, прикрывавшие их прелести как раз настолько, чтобы воображение могло дорисовать изгибы, впадины и выпуклости, как будто ты их видишь перед собой — и можешь грезить в одиночестве сколько угодно, оторвавшись от книги. Ощущаешь женщину совсем близко, рядом. То была эпоха старого “Луиса Вивеса” (унося с собой тени профессоров — изваяния самих себя — и тени педелей — ничьи изваяния, она уходила, кружась вместе с голубями, под удары высившихся вокруг “Луиса Вивеса” уличных часов, и бой их был таким нестройным, что, конечно же, и голуби, и изваяния должны были улететь). Эпоха, когда они начали понимать похабные стихи (непристойные были попроще, те они понимали еще в первом классе, при поступлении), которые кому-то надо было писать на стенах уборных. Терцины, четверостишия и двустишия повторялись в нестираемых стенных надписях в общественных уборных по всей стране. И конечно, сопровождались редкостными, порой фантастическими фаллическими изображениями. Кто писал и рисовал подобные вещи? И зачем? (Кто и сейчас продолжает писать и рисовать их? И зачем? И не только в Испании. Кажется, эта традиция — всемирная.) В результате тайна отношений между мужчиной и женщиной, по крайней мере для этих юношей, предстала в виде загадки мочеполовых органов и потом, через много лет, вызывала в памяти ощущение сильного запаха хлорной извести. Удивительно. Но кто? Зачем? И когда, когда? Никто никогда не видел авторов этих стихов и рисунков. Неужели?.. Довольно об этом.