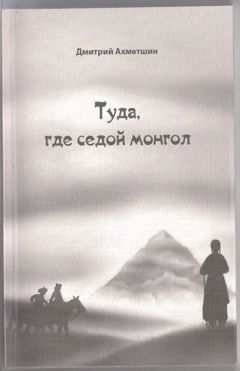– Я хотел отнять руку.
– Нет, подожди. Посмотрю на твои линеечки, не утаишь.
– Как не подождать, если руки у нее пахнут яблоками.
– Линия жизни у тебя ломанная, хочет затеряться и не пропадает. Линия разума – расплывчатая, не хватает воли, мужества. Силы твои ушли на беду, на горечь, но все тебе заменила маленькая привязанность, утешила... Она с тобой неразлучна. Без нее ты слаб...
– Придумала. Даже я по моей руке вижу, как ее хозяин голоден. И больше ничего.
– Придумала. Но в этих штанах обедать не будешь, кормить не стану.
– Материнское начало, – поклонился я моей гадалке, – в тебе самое сильное.
– Ой ли? – улыбка ее снова стала заметно грустной.
* * *
Сегодня утром я долго не мог понять, что разбудило меня.
В открытом окне вагончика синела свежесть, веяло беспробудной тишиной. Легкий шелест ветряка, похожий на слабое гуденье ветра, только усиливал ее. Не стрекотали кузнечики, не проснулись птицы, но я был уверен, что меня разбудил какой-то звук, щемяще знакомый непонятный звук.
Лежу, смотрю в окно, жду чего-то. И вдруг он повторился уже наяву. Крикнул утренним голоском озорной, совсем еще маленький петушок. На самой заре кукарекнул в синей свежести нахаленок петушок. И стала понятной моя неясная встревоженная память... Пробуждение в деревне, куда отвозила меня каждое лето мама, вдыхать запах сена и молока, бегать босым и счастливым.
Как все непостижимо далеко, невозвратимо далеко. И такой неощутимый звук может это вернуть?
Кричит петушок. Маленький горластый живой петушок. Живой!
Сила во мне утренняя, живая, тишина вокруг живая, лес непобедимо живой. Пахнет молоком трава, разбавленная туманом. Детство мое, все что близко мне, все кто мне дорог – живут во мне, звучат во мне. И никакое черное щелканье заглушить звучанье так и не сможет. Пока я сам дышу, двигаюсь, думаю...
Нарочно прошел по мостику над муравьиной тропой, с удовольствием ощущая как пружинят сухие доски, постоял на них, пока не увидел внизу под ними первых, самых непутевых или очень заботливых муравьишек... Живем! Бегаем и живем!.. Всему на свете доброе утро. Всем, всем доброе утро!
* * *
Боязнь кривизны так и не оставляет меня. Кажется, половина всей работы уходит на приседания, замеры, оглядывания, шпагатики, отвесы. Он вырос уже до подоконников. Я думаю про него «он», как про что-то живое.
Ставлю рамы после двух рядов кирпичей, чтобы вмуровать в них цементом алюминиевые блоки, а потом уже обкладываю с двух сторон, чтобы ветер не повалил остекленные до меня окна, легкие просвеченные с виду, когда снимаешь картонную обшивку, но тяжелые до невозможности поднять их руками.
Я подвожу кран к стене дома, рама повисает на стреле, служа как бы заодно и отвесом, и закрепляю кирпичом и цементом до половины рамы. Идеальная прямизна! Дальше будет легче выкладывать ряды от окна до окна, от угла до угла.
* * *
Мне понадобилась новая зубная паста. Я пошел на склад и постучал к ней. В комнате на стульях новенькое полотняное белье, пошитое не по принципу – кусок на кусок, сверху поясок. На удивление моим уже дремуче таежным взглядам, на нем были фигурные штучки, простите меня, обводы, скаты и накаты. Повеяло ЦУМом, витриной в толкучке Петровки.
Она поспешила свернуть работу.
– Это мини или макси?
– Не для твоего глаза... Посиди, я как раз о тебе думала.
– Уже интересно.
– Ты не мог бы натянуть к ним антенну? Из проволоки? – она кивнула в сторону приемников.
– Могу, если ты обещаешь, не будет истерики.
– Выходит, я у мамы дурочка, – обиделась она.
– Дурочка не дурочка, но если не получится – никаких стонов. Иначе и затевать не буду.
Она смежила и подняла ресницы.
– Ну, вот и хорошо, – сказал я, – тут и начнем.
На складе под навесом уже давно у меня было приготовлено кольцо медной проволоки, но я побаивался начинать эту работу, боялся неудачи, новых слез и упреков. Я сходил за проволокой, по лестнице, поднялся на верхнюю площадку водокачки, туда, где от большого бака веяло приятным освежающим холодком.
Посмотрел в окно. Высоко. Далеко видно. Вся наша поляна. Те вокруг все-таки выше, и заглянуть через него просто невозможно. Тут не позволяет он себя одолеть. Будто, в самом деле, нет ему края, нет ничего за ним, один он раскинулся по всему свету. Один, вокруг таинственной, оставленной для неба и солнца мягкой поляны.
Сиреневый цвет ее, который так удивил меня еще недавно, улетучился куда-то, уплыл с одним из ясных ветреных дней. А на траву легли дымчатые серебряные блики, живые как ветер, волнистые. Поляна до краев налита мягким шорохом. Кажется, можно прыгнуть в него и не разбиться... Пушистый, густой, летучий покров с ярким бело-розовым пятном у самой кромки леса, там, где посеяна гречиха. Там, где пчелы поют медовые песни, танцуют, видимые даже на расстоянии. Так много слетелось их на розовый горьковатый гречишный дым.
Только сверху заметно, с какой осторожностью ходили по этому лугу незнакомые люди. Нет ни одной дороги, ни одной тропинки, чтобы напрямую вела через поляну от ангара к фундаментам, от площадки, где, наверное, садились вертолеты, от склада, от водокачки. Все пути проложены окольно, земля нигде не затоптана дальше, чем на два метра от стен. Одна колея срезала угол по живой траве к моему дому... Это моя колея... Растяпа...
Закрепив конец провода на раме окна, я скинул медный моток вниз и пошел с ним к нашему складу, разматывая на ходу мою самолетную антенну. Длина ее получилась метров сто пятьдесят. Очень сильное, по моим понятиям, приемное устройство. Кажется, воткни в ухо, и сами собой станут слышны дальние грозовые раскаты, побегут искры по всему телу.
Но приемники, такие великолепные современные приемники, в черном лаке, в наборе матовых клавиш, остались глухи ко всем попыткам оживить их... Помню, как звучало, как умеет звучать пространство. Резкие, нежные, веселые, трагические земные голоса, перебивая, заглушая один другого, спешили высказать всем и каждому свои волнения мысли, надежды, планы, поиски, дела. Все они были рядом в гуле приближенных событий, миллионы живых невидимых лиц и голосов. Отдаленные расстоянием, все они были не одиноки. А теперь я не слышу их, вижу их. Немая физическая глухота... Не заметил, как начал тереть уши. Боль от глухоты стучала, давила виски.
Я соединил антенну с одним приемником, с другим. Провод шел через окно в самое небо, невероятно глухое небо. Ничего не менялось... Нет, менялось ее лицо. И смотреть на него было грустно.
– Господи, я с ума сойду, – не выдержала она.
– Мы с тобой договорились...
– Но ведь я не реву!
– Не вышло на этот раз, выйдет потом.
– Когда потом?
– Бывает, в июне станция не ловится, в декабре слышно.
– Я не хочу декабря, не хочу зимы, я не могу!
Вот и верь после этого женщинам. Она заплакала, уронив голову на руки. Я стоял, не двигаясь. Онемел, как эти чертовы приемники. Ну что мне сказать ей? Надо пойти сворачивать медяшку, забираться на башню, скручивать. От грозы. Нет никаких сил, нет желания, нет воли, одна усталость. – Миленький, хороший, уйдем отсюда куда-нибудь.
– Через лес?
Ответа не было.
– Значит, самим добровольно сбежать от людей?... Они сюда придут, – сказал я, всем нутром ощутив на миг, что я не верю своим словам.
* * *
Никогда не видел таких страшных снов, как этой ночью. Никогда.
Знаю: передам сумбурные виденья мои бумаге – она исцелит меня, избавит хотя бы на сегодня от возвращения к ним. Давно заметил: равнодушная бумага утешает... А рука моя не тверда, будто чужая, разбегаются нервно буквы...
Ясным солнечным невыразимо спокойным и добрым утром объявили в городе воздушную тревогу. Я схватил мальчика и выпрыгнул вместе с ним в дверь балкона, в кусты сирени, чтобы скорее, ближе домчаться к нашей станции метро.
– Зачем, папа!? – крикнул он, закрывая оцарапанную веткой щеку. И я не мог ответить ему, дыханье перехватило от бега. Наждачный асфальт обдирал подошвы, цеплял ноги, не давая бежать, как мне хотелось – огромными прыжками, по-собачьему, по-звериному – только бы скорей под землю, под бетон, под камень... А дома вокруг были уже безмолвны, мертвы. Машины, распахнутые настежь, невпопад застыли на голых улицах. Мы одни колотимся между ними, весь город ушел под землю от ясного, как сияние, неба.
Господи, умолял я не знаю кого, помоги добежать, помоги добежать, помоги-и...
Станция была совсем рядом, и я почти упал с первых ступенек туда, где медленно задвигались огромные стальные двери, отделяя нас двоих от всех, кто был уже там, кому суждено жить. Оставалась только узкая щель, а в ней белое, как полотно, лицо женщины – милиционера.
– Отключите! Отодвиньте на столечко! Возьмите ребенка!
– Не могу, – сказала белыми, как полотно, губами узкая бронированная щель. – Не могу-у! Осталось десять секунд. Она уже взорвалась!