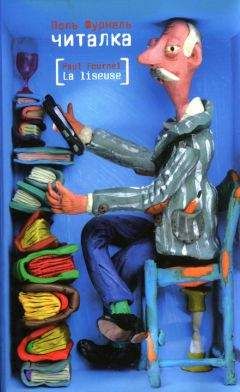Она съела свою фасоль, даже не почувствовав ее вкус, выпила свой горячий кофе, даже не подумав его подсластить, после чего приняла решение забыть всю эту историю и вернуться к привычному укладу своего невзрачного существования.
Через шесть дней она снова обернулась, словно движимая какой-то инстинктивной силой. Это произошло так внезапно и так резко, что у нее хрустнули позвонки, и она почувствовала ужасную боль в правом плече. Позади, как и раньше, не было ничего. Ничего необычного, если не считать стоявшую на пороге своей лавки колбасницу, которая на нее смотрела как-то странно. Ей даже показалось, что та пожала плечами. Еще никому никогда не доводилось видеть, как Мелани Мартен дергается на главной площади деревни.
Мелани быстро вернулась домой и рухнула в глубокое кресло в гостиной. Она была вся в поту. Она подняла руку, дабы удостовериться, что маленькое махровое полотенце, которое она вешала на спинку кресла, висело на своем месте, и струившийся по ее шее пот не может испортить бархат с орнаментом в стиле ампир. От этого жеста проснулась боль в плече.
На этот раз у нее уже не оставалось никаких сомнений: на площади она ощутила за своей спиной чье-то присутствие: ощущение было неясным, смутным и трудно определимым из-за сильной боли от поворота. Единственное, в чем она была уверена, так это в том, что это присутствие не имело ничего общего с присутствием колбасницы. Колбасницу она знала как облупленную, она знала, насколько поверхностен ее взгляд и считала, что он совершенно не заслуживал внимания. Чье-то таинственное присутствие сильно давило на нее, и тяжелый взгляд нельзя было объяснить одной лишь таинственностью...
Мелани и на этот раз попыталась вспомнить, что именно увидела, обернувшись; но и на этот раз ей пришлось признаться, что на площади все было тихо и спокойно, и не происходило ничего необычного. Она набросила шерстяной платок на больное плечо и решила отложить на день-другой посещение врача. У нее свело шею, и она уже не могла свободно поворачивать голову.
В третий раз она обернулась, когда стояла перед пластиковым столом на кухне, у себя дома. Она развернулась всем туловищем, так как теперь шея уже полностью была зажата и постоянно болела. Вновь проснулась боль в плече, но теперь у нее возникло явное ощущение того, что за окном промелькнула какая-то тень. Учитывая то, что она находилась на втором этаже, и у нее не было балкона, это обстоятельство показалось ей странным, но зато оно могло указать на след. Весь следующий день Мелани ощущала неподалеку от себя таинственное присутствие. Она была в этом уверена, но вряд ли бы сумела объяснить, почему. Возможно, присутствие проявлялось в какой-то тяжести воздуха у нее за спиной, в каком-то слишком безмятежном спокойствии, а еще в том, что все складывалось слишком хорошо... Она была почти уверена, что в любую секунду может снова обернуться.
Мелани приняла решение сопротивляться.
Она уселась на крутящийся табурет, ухватилась за край стола, сделала вид, что занята чем-то другим, и принялась ждать. Поскольку у нее не было никакой веской причины оборачиваться, ей было очень трудно предвидеть, в какой именно момент она это сделает. Она настроилась и прождала добрые полчаса: костяшки ее пальцев побелели: по рукам побежали мурашки. Постепенно затихали привычные деревенские звуки: она уже не слышала, как дети бегают по улице, она не различала треск мопеда младшего Перрона, прекратилось даже тиканье ее кухонных часов. У нее страшно зачесалась правая икра, но она себя переборола, сжала зубы и не отпустила край стола.
Она стойко держалась до вечера.
Около половины восьмого, в час, когда плачут младенцы, а собаки так похожи на волков, она почувствовала, как заболела шея и дождалась.
Это было что-то едва слышное, что-то размеренное, похожее на какое-то гудение, на низкий, беспрерывный фон. Как маленький моторчик.
Теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения: то, что она слышала за своей спиной и что заставляло ее не раз оборачиваться, было просто-напросто камерой.
Ее снимали.
Еще какое-то время она, напрягая мышцы, продолжала сидеть неподвижно, а потом резко крутанула табурет.
— А! — крикнула она, вытянув вперед руку, чтобы схватить невидимый объектив. Табурет затрещал, резиновая подошва ее домашних туфель скрипнула по линолеуму, когда она опустила ноги на пол, чтобы остановиться.
Мелани постепенно приняла прежнюю неподвижную позу, медленно обрела равновесие и поднесла правую руку к шее. Болезненная гримаса исказила ее лицо.
На деревню опустилась ночь. Из ее окна виднелось черное небо и вершина холма, на которой одиноко горел свет на кухне Большого Дома. Было, наверное, часов восемь. Где-то залаяла собака, молочник вынес свои бидоны, и все стихло.
Она медленно выпрямилась, зажгла свет и схватилась за дверной косяк, так как комната стала перемещаться вокруг нее; перед ее глазами порхали черные бабочки, а ее напряженные, скрученные мышцы доставляли ей нестерпимую боль.
Она легла, не поужинав, не раздеваясь и даже не расстелив постель. Она просто натянула на себя покрывало и заснула.
Вскоре в деревне нашлись добрые души, которые, покачивая головой, рассказывали, что Мелани в последнее время стала какой-то странной и что у нее нервный тик.
Было видно, как она пересекает площадь сгорбившись, словно душа грешника, постоянно бросая испуганные взгляды через правое плечо и громко сетуя на свои непрекращающиеся боли.
Дети прозвали ее «юлой», а толстуха Клодина однажды утром безапелляционно заявила, что Зитрон ей вскружил голову. Все посмеялись.
Мелани наконец решилась сходить к доктору Дефлеру. Он усмехнулся и сказал ей, что все дело в возрасте и что с ревматизмом ничего поделать нельзя. Прописал ей успокоительное, согревающую мазь и покой.
У доктора ей удалось не крутить головой или, точнее, она это делала только тогда, когда он на нее не смотрел. Она решила не рассказывать ему про камеру и про шум мотора, который она теперь слышала почти круглые сутки напролет.
С какой целью ее снимали?
Она забеспокоилась.
Что подумают люди в деревне?
Отныне камера не отставала от нее ни на шаг, она постоянно слышала ее тарахтение, но у нее уже не было сил оборачиваться, чтобы застать ее врасплох. Она сдалась. Она знала, что камера рядом, но что она ее, наверное, уже никогда не увидит.
Однажды, отчаявшись, она решила себя успокоить хотя бы тем, что в такой ситуации оказалась не одна. Она незаметно подошла к мадам Вассерман, которая из окна смотрела на проходящих. Несколько минут они поговорили о вновь начавшихся дождях и холоде, которые ужасно действуют на их ревматизмы, после чего Мелани как бы невзначай ввернула:
— А если нас снимают?
— Снимают? Это кто же?
— Ну, не знаю, например, телевидение...
— Да какое же тут телевидение?
— Никакое, никакое. Так просто подумалось...
Мелани вернулась домой без сил.
Постепенно она утратила вкус ко всему тому, что раньше скрашивало ей существование. Ощущение того, что ее снимают, сковывало, а любое движение сопровождалось страшной болью, которая еще больше осложняла дело.
Опали листья, пришла зима, и была она ужасной. Весна все никак не наступала. «Какое удовольствие они могут получать, снимая, как я ковыляю по своей кухне? — шептала Мелани. — Что может быть интересного в такой старухе, как я? Лучше бы снимали молодежь!»
Ее сил хватало лишь на то, чтобы сделать несколько скупо просчитанных жестов утром, после чего она старалась обойтись без движений до самого вечера. Отныне она потеряла всякий интерес к жизни, которая представлялась ей огромной тучей. Никто уже не видел, чтобы она пересекала площадь, и никто уже не слышал, чтобы она произносила волшебное имя Леона Зитрона.
Однажды утром, не решаясь отбросить одеяло из опасения, что ее опять начнут снимать, она приняла серьезное решение. Так жить она уже больше не могла.
Она встала, напялила на голову шерстяную шапку, затянула вокруг шеи шарф и плюхнулась в кресло.
«Ну, вот, — подумала она, — теперь я с места не сдвинусь. Если уж им так хочется меня снимать, так пусть снимают, как я ничего не делаю».
Она сидела неподвижно с полуопущенными веками.
Она сидела молчаливо, прислушиваясь к тарахтенью, которое становилось все явственнее по мере того, как камера приближалась к ее сердцу, и вышла из оцепенения только на миг, чтобы прокричать: «Давайте! Снимайте! Если уж вам не дорога ваша пленка!»
Раздаются мощные звуки органа. Отец отпускает ее руку, отходит и садится на скамью в первом ряду. Она встает на колени на молитвенную скамеечку, покрытую красным бархатом. Ее будущий муж отпускает руку своей матери, подходит и встает на колени рядом с ней.