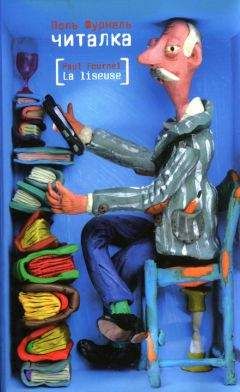Она сидела молчаливо, прислушиваясь к тарахтенью, которое становилось все явственнее по мере того, как камера приближалась к ее сердцу, и вышла из оцепенения только на миг, чтобы прокричать: «Давайте! Снимайте! Если уж вам не дорога ваша пленка!»
Раздаются мощные звуки органа. Отец отпускает ее руку, отходит и садится на скамью в первом ряду. Она встает на колени на молитвенную скамеечку, покрытую красным бархатом. Ее будущий муж отпускает руку своей матери, подходит и встает на колени рядом с ней.
Бах заглушает шаги гостей. С общего согласия они выбрали «Токкату». Она слышит, как сзади толкаются люди. Места на всех не хватит. Некоторым деревенским жителям придется остаться на паперти. Когда они выйдут из церкви, для них будут разбрасывать драже. Ей хотелось бы думать только о нем и принадлежать ему целиком.
А еще ей хочется, чтобы праздник был большим, чтобы месса была трогательной, чтобы ее платье не помялось. А еще ей хотелось бы удержаться от слез, чтобы не потекла тушь с ресниц. Ей хотелось бы не качать головой, чтобы завитые волосы не вылезли из-под вуали и не распались вялыми буклями по щекам.
Им придется заниматься всеми, ночь будет утомительной. Она будет принимать все приглашения на танец, она будет улыбаться, она будет нежно гладить по голове всех детей. Краем глаза она оценит, как все приоделись и приукрасились.
Ей бы хотелось обернуться, чтобы увидеть, как заполняется церковь, присутствовать при толкотне вокруг последней скамьи. Кюре встает на свое место. Она должна не забыть снять перчатки. Она бросает беглый взгляд, чтобы убедиться, что ее муж об этом тоже не забыл. Он не забыл. Он очень хорош в своем белом смокинге.
Она выходит за него замуж не из-за денег.
Во время ужина надо будет проследить, чтобы дядя Ферраша не напился. Он становится злым и начинает говорить правду, которую не всегда следует говорить.
Она поднимается и встает на колени каждый раз, когда кюре ей подает знак. Она не следит за мессой. Ее муж кладет свою ладонь ей на руку, она поворачивается к нему, он ей улыбается.
Надо будет проследить, чтобы дети не занимали все время танцевальную площадку, и убедиться, что Клодине отвели место в конце стола. Она попросит руководителя оркестра, чтобы фривольные песни исполняли после полуночи. Надо будет сделать так, чтобы родственники мужа были не очень удивлены простыми нравами ее односельчан. К счастью родственников будет немного.
Ей бы очень хотелось, чтобы между гостями, ожидающими своей очереди пройти в ризницу и поздравить молодых, не возникло ссор и перебранок.
Мадмуазель Тереза, известная своими театральными способностями, рассказывает в микрофон, что ее любимый ради нее преодолел горы и долины.
Дама из Большого Дома пришла в церковь, и ей отвели место во втором ряду. Она попросила у кюре разрешения не вставать во время службы, и тот нашел эту просьбу совершенно естественной.
Она надеется, что, выходя из церкви, малышка Фрашон не запутается в шлейфе. Бах. Фуга.
Ей бы хотелось, чтобы праздник стал незабываемым.
Звуки поднимаются под своды, отражаются повсюду и возвращаются к ней, проникая внутрь, в самое чрево. Она мысленно обращается к Богу и благодарит его за все это счастье.
Надо будет позаботиться, чтобы всем хватило шампанского. Все поют. В хоре она не слышит бас кондитера. В этот момент он, должно быть, заканчивает украшать праздничный торт. Она сама выбрала пластмассовые фигурки молодоженов, которые он должен водрузить на вершину сооружения. Она сказала «да», даже не отдавая себе отчета. Внезапно ее окружили вспышки фотоаппаратов. Ее муж сказал «да» и улыбнулся ей. Он выглядит довольным.
Она вспоминает о своем первом причастии.
А еще она думает о кружевных трусиках и лифчике, которые надела под платье. Она пытается отогнать эти мысли, но тут ей в голову приходит другая мысль: ведь свадьба — еще и это. Она останется на празднике, пока не уйдет последний гость. Они не будут торопиться сразу же лечь в постель. Ее муж многое пережил; а она — хоть ей уже тридцать четыре года — она о себе так сказать не может.
Отныне она носит на пальце освященное обручальное кольцо.
Другое она надела на безымянный палец мужа. Она даже не колебалась, она не упустила свой шанс. Он улыбается. Надо будет проследить, чтобы Фрашон не разошелся и не очень-то тискал дам. Родственницы со стороны мужа этого не потерпят.
Она представит Мадмуазель Терезу брату мужа. Он приехал издалека и не знает, что она охотно пересмеивается с мужчинами, а так как она очень красивая и очень умная...
Шампанское будет у всех.
На улице солнце, можно будет выйти во двор, чтобы сняться на скамейке у липы.
От церкви надо будет ехать на машине, и они наверняка опустят стекла.
Она выходит за него замуж не из-за денег.
Она будет махать рукой. Она наденет перчатки.
Поскольку она незлопамятна, то пригласила и плотника, надо не забыть ему улыбнуться. Один раз — исключительно для него.
Итак, там будет вся деревня, по крайней мере, во время аперитива. Там будет даже хромой: нужно уметь идти на уступки. Г-н кюре и ее родители ее бы не поняли. Они всего не знают. Они не знают, сколько раз он над ней измывался.
Вдруг она видит себя маленькой девочкой, дрожащей, ожидающей своей очереди войти в исповедальню.
Кюре постарел, но это все тот же славный кюре.
Ее муж мечтал о простой свадьбе. Он не любит хвастаться своим состоянием, и она довольна, что все смогут убедиться в том, что она выходит за него замуж не из-за денег.
Ей хочется плакать.
Последние три дня были изнурительными.
Понять это смогут все, кроме хромого, у которого каменное сердце. И что она только не придумывала.
Ее охватывает дрожь.
А не забыли ли расставить на столах бокалы для шампанского?
Ей не следует слишком много есть и пить, даже если ее будет мучить жажда.
Муж ей улыбается.
У нее начинают болеть колени от молитвенной скамеечки, и она боится разорвать чулки.
Клодина недовольна, но так как она вообще всегда недовольна, то никто этого не замечает. Жанетта ее понимает. Жанетта понимает всех, а Клодина так и не сумела выйти замуж.
Опять Бах. Может, это «Иисус, да пребудет моя радость», она не уверена. Ей хочется, чтобы все сейчас закончилось, но она знает, что выдержит до конца. В такой день она должна выдержать и она выдержит. Это и называется счастьем.
А потом она будет принадлежать только ему и навсегда.
Он нежный, богатый, красивый. Другим он быть и не мог. Они любят друг друга, и их любовь была неизбежна. Их руки соединяются. Если он еще немного простоит на коленях, то стрелка на брюках сомнется.
Раздаются мощные звуки органа.
На этот раз это «Иисус, да пребудет моя радость», она почти уверена, она незаметно качает головой в такт. Вскоре они встанут, он возьмет ее под руку, она почувствует его плечо рядом со своим, и они направятся в ризницу.
Она сможет оглянуться назад. Женщины будут плакать, мужчины в черных костюмах опустят головы. На лбах тех, кто работает в поле, она заметит белый след от кепок. Клодина будет злиться, ее старый отец ей улыбнется, ее мачеха опустит веки в знак того, что она была безукоризненна. Она сожмет свой букет в левой руке.
Она качает головой в такт.
И вот, сначала еле различимо, затем все четче и четче, такт сбивается гулким стуком башмака на деревянной подошве.
Хромой.
Его неровный шаг заглушает звуки органа и заполняет тишину церкви.
Еще немного и Жанетта расплачется. Она чувствует, как он приближается. Он идет прямо к ней.
«Гадкий сторож», — шепчет она сквозь зубы.
«Гадкий сторож».
Звук шагов разносится под сводами. Жанетта опускает голову.
Ей хочется закрыть уши руками и завыть. Топ-топ. Топ.
Когда-нибудь она его ударит. Вот он уже подходит и сейчас дохнет винным перегаром в ее новобрачный висок.
Она изо всех сил стискивает зубы и сжимает веки. Получается гримаса. Она сейчас расплачется. Никто не должен увидеть ее вздрагивающую от рыданий спину.
— Простите, мадмуазель, вам нельзя оставаться перед алтарем. Сядьте на скамью и молитесь как все. Г-ну кюре не понравится, если каждый будет сюда подходить и пачкать бархат. Здесь разрешено молиться только новобрачным.
Когда-нибудь она его прибьет.
Слеза выкатилась из глаза, нашла путь в лабиринте морщин и упала на сковородку. Тут же мгновенно свернулась в крохотный дрожащий шарик и испарилась. За ней другая, третья... Под сковородкой громко шипело пламя.
Кухарка смотрела влажным взором на свою искореженную ревматизмом руку, которая с таким трудом удерживала ручку сковородки, на два стебля садового цикория, которые, даже не помыв, положила около плиты и на пачку масла. Она переводила взгляд на руку, затем опять на цикорий, на масло и продолжала плакать. Мелани плакала из-за единственной вещи в мире, ради которой стоило плакать; она плакала, потому что уже не могла приготовить цикорий. Вся ее жизнь прошла под фатальным знаком диалектики ломтя хлеба и куска сыра: кусок сыра отрезается, чтобы доесть ломоть хлеба, а следующий ломоть хлеба отрезается, потому что отрезанный кусок сыра оказался слишком большим. Она жила, чтобы есть, а чтобы заработать на жизнь, она готовила.