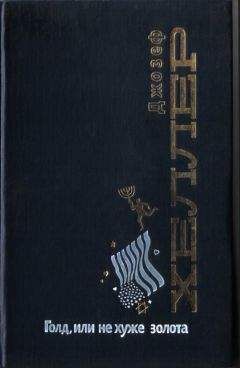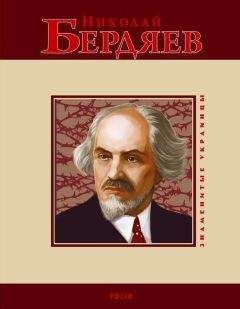Я оглянулась, посмотрела вверх – идти было далеко.
– Садись в машину, – сказал он, – хватит, поедем... Тут пока нечего делать... Это потом, позже, тебе придется не забывать про ведро и тряпку, и про ножницы – подрезать кусты... Здесь еще год-два будет красиво... Эти кусты, не знаю их названия, – так быстро растут и такими цветут яркими цветами, – сердце улыбается... Не благодари, не благодари! Как же не помочь в этом...
– ...А сейчас ты куда? – спросил он, когда мы подъехали к воротам.
У меня было несколько встреч в центре, в районе Русского Подворья. Он сказал: мне тоже в город, я подвезу...
– У тебя большая машина, – заметила я, – много детей?
– Нет! – сказал он неожиданно резко. – Двое. Она принесла мне только двоих!
Я взглянула на него сбоку. Он проговорил это в сердцах, даже усы встопорщились. Застарелая обида на жену...
– Тебе надо бы усы подстричь, – сказала я, – тебе есть, наверное, неудобно...
– Я не стригу ничего, – сказал он. – У меня борода до колен.
Мы как раз стояли на светофоре; он задрал голову, показывая, что борода его аккуратно завернута и сколота под подбородком английской булавкой. Сноровисто распустил ее, раскатав по животу, и так же быстро опять завернул, как солдатскую скатку, тщательно сколов.
– Детей только двое. Да и то, дочь вышла замуж, а у свекра магазин в Нью-Йорке, и теперь он их туда увозит, вместе с внучкой... А младший – неизвестно по какой дороге пойдет... Сама знаешь – какое сейчас положение повсюду. В религии – тоже... А машина... Это я вожу тела.
– Тела?
– Ну, покойников...
Я невольно оглянулась, он это заметил.
– Не бойся, – сказал он, – чего уж тут бояться. Я получаю их чистыми, обработанными... Тебе неприятно?
– Да нет...
– Понимаешь, кто-то должен этим заниматься...
Тут зазвонил его мобильник и с минуту он договаривался о чем-то, попросил меня записать на листке какой-то адрес в районе Кирьят-Йовель...
– Просят перевезти семью с квартиры на квартиру, – пояснил он мне, – бесплатно, конечно... Там куча детей, кое-что из мебели, какое-то стекло... Они бедные, платить нечем... – усмехнулся и добавил: – Моя парнаса!
...На Еврейском перекрестке, на углу улицы Штраус, меня окликнул знакомый художник, и те две-три минуты, пока светофор держал красный, мы успели перекинуться новостями...
– Жаль, что вы сейчас в Москве, – сказал наш знакомый. – Тут сейчас отличная халтурка обломится: муниципалитет дает художникам расписать львов...
– Львов?! Где?
Светофоры выкатили желтые горошины. И, торопясь, уже в движении, художник докрикнул в уличном шуме:
– Выдают бетонную болванку – сидящий или стоящий лев, и расписывай себе на здоровье, что только в голову придет! Для настроения публики... Не вешайте мол носы, ребята, – жизнь прекрасна! По всему Иерусалиму будут...
...зеленый! Толпа двинула – как обычно на этом перекрестке – в разных направлениях, наш знакомый махнул, досылая привет Борису рукой, а не голосом, и исчез в толпе...
...До встречи с другом у меня оставалось еще минут пятнадцать. Я купила в киоске свежий номер газеты и тут же развернула. Все шло своим чередом: во Франции, в Авиньоне подожгли синагогу... Арабские школьницы и их родители вышли в Париже на демонстрацию против учителей-евреев... Евросоюз требует от Израиля... Америка выступает с новыми инициативами...
Перевернула листы: в разделе “Культура” на соседних колонках шел спор двух журналистов на любимую, давно расчесанную тему. Отвратительное мракобесие – запрет на исполнение музыки Вагнера в Израиле – длить долее недопустимо, писал один, мы позорим себя перед просвещенным миром, потакая националистически настроенному плебсу... Другой – в соседней колонке – отвечал, что ждать осталось недолго. Еще год-три, н у, пять, и уйдет в лучший мир этот националистически настроенный плебс – все те, кто чудом, волею небес или благодаря мужеству скрывавших их праведников ускользнул от окончательного решения еврейского вопроса – термин, изобретенный, кстати, великим Вагнером, – те, кто выжил, несмотря на все опыты, производимые над ними любителями Вагнера под музыку его же... Словом, еще чуточку терпения и Вагнер, конечно же, восторжествует в Израиле, как, возможно, и окончательное решение еврейского вопроса...
Обычная беспощадная драка ногами без всяких правил, какие бывают у нас только между своими...
Подняв от развернутой газеты взгляд, я увидела в витрине цветочного магазина неподалеку вывешенные флажки Англии, Франции и Германии, крест-накрест перечеркнутые черной краской. Над ними висел рукописный плакат: “Я байкотирую этих выблядков. А ты?”
А за стеклом магазина покупал цветы мой старый друг, с которым минут через пять мы должны были встретиться в соседней забегаловке. Этот упрямый человек лет двадцать пять уже знал, что я не люблю срезанных цветов, и все-таки каждый раз покупал гвоздики, в память о тех, еще ташкентских гвоздиках, которые – и тогда вполне случайно! – были у меня в руках в нашу первую встречу.
Я подошла, когда он расплачивался, и сказала:
– Опять гвоздики?
И мы обнялись, как после долгой разлуки, хотя перед отъездом в Россию, с полгода назад, виделись – как всегда на бегу – в Хайфе. В последнее время мы встречались в самых разных концах Израиля и всегда на бегу, потому что мой друг, сделавший в Стране ошеломительную карьеру в полиции, с недавних пор возглавлял одну из групп по борьбе с террором на Севере страны. Мне повезло, что на этот раз я перехватила его в Иерусалиме.
– У тебя уставший вид, – сказала я, когда мы забились в самый дальний угол ресторанчика и сделали заказ, что-то плебейское: горячие питы, индюшачья шварма, салат-хацилим – расхожий, но все-таки вкусный набор средиземноморской скатерти самобранки.
– Я-то, по крайней мере, имею на это право, – возразил он. – Я в последний раз спал бог знает когда. А вот ты почему выглядишь, как загнанная овца?
– Нет, я – загнанный пастух... Измученный пастырь жестоковыйных московских овец.
– Что, не едут люди?
– Не очень...
– Ну, их можно понять. Знаешь последний наш анекдот? Что такое “русская рулетка” – известно всем. А вот “израильская рулетка” – это когда человек приходит на автобусную станцию в Иерусалиме и садится в первый подошедший автобус...
– Да, смешно... Сеня, – спросила я, – что будет, а?
– Спроси что полегче... Дай-ка я лучше расскажу тебе последнюю хохму.
И пока мы ели шварму и намазывали на куски питы остро-пряную размазню баклажанного салата, он рассказывал мне эту хохму:
Некий очередной террорист-самоубийца неудачно подорвал себя, не до конца. В бессознательном состоянии его привезли в Иерусалимскую клинику “Адасса”. Неотлучно при нем находился офицер израильских сил безопасности, врачи боролись за его жизнь, так как очень важно было выудить из него сведения о тех, кто засылает таких вот ребят, мечтающих о семидесяти гуриях в бесплатном раю... Словом, когда этот парень наконец открыл глаза, в мутной пелене вокруг себя он увидел все белое – стены, бесплотные силуэты в белом. Над ним склонилось лицо с внимательным тяжелым взглядом.
– Я... в раю?.. – простонал террорист.
– А ты как думаешь, – участливо спросил в ответ обладатель пронзительного взгляда, – в раю бывают евреи?
– Конечно, нет, – ответил террорист-неудачник.
– Ну, значит, ты не в раю, – заключил полковник сил безопасности и велел везти бедолагу на допрос...
* * *
Дважды за этот куцый отпуск меня тягало начальство в Долину Призраков... Полдня я угробила на какое-то совещание, потом еще день – страшно и непотребно ругаясь про себя, – на встречи с каждым из начальников. А игнорировать было никак нельзя: деликатность ситуации заключалась в том, что в Иерусалиме шли неутихающие феодальные войны между главами департаментов. Именно тамошние босховские и брейгелевские персонажи, их застарелые или свежие междоусобные распри формировали принципы кооперации или, наоборот, противостояния департаментов в России. Все это было похоже на отражения в озере деревьев, растущих на берегу, или облаков, плывущих по небу, и точно так же любого камня, брошенного с берега в воду, было достаточно для того, чтобы отражение разбилось, замутилось, пошло рябью... Стоило поссориться начальникам двух, прежде дружественных, департаментов в Иерусалиме, как в Москве у нас летели к чертовой матери налаженные проекты.
Пробегая по коридору второго этажа мимо кабинетов, поймала себя на том, что читаю имена на табличках. Ни одного Азарии на глаза не попалось. Уже выходя из здания, я спросила у охранника, сидящего над присутственным журналом, в котором отмечались все посетители Синдиката:
– Слушай, в каком департаменте сидит Азария?
– Азария? А фамилия? – спросил тот.
– Фамилии не знаю...
– Так выясни в департаменте Кадровой политики, а то я здесь недавно, не со всеми знаком...