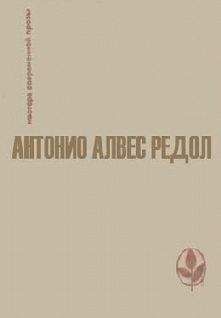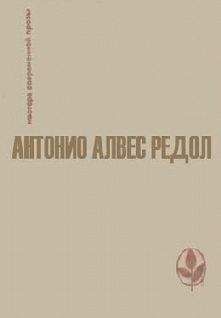– Ну, давайте! – объявляет Ромуалдо, тоже раздраженный.
Оба садятся в исходную позицию, упираются ногами, как удобнее каждому, Испанец раздвинул свои пошире – для него стол низковат; собравшиеся следят за каждым их жестом, подбадривают взглядом, и все ждут последнего слова судьи, а тот тянет: два, два с половиной, два и три четверти, три!
В приземистом теле Зе Мигела рождается спокойная ярость – он намерен победить, и болельщики угадывают это по выгибу спины, внезапно напружинившейся жестко и эластично, самозабвенно и необоримо, и точно так же напряглись мускулы руки, выпирающие и подрагивающие, противостоящие напору противника, который потерял самообладание от желания победить, почти ошалел от гнева, того и гляди, закричит. Зе Мигел сдерживает порыв соперника, проверяет его силы, чуть раскачивая руку, прикидывает в уме, выжидает миг, когда решимость изменит Испанцу, но чувствует, что пока не время, сдерживается, пробует сделать быстрый рывок, Испанец скрипит зубами и подхлестывает себя приглушенным ревом, Зе Мигел наращивает силу медленно, очень медленно, впивается ему тремя пальцами в тыльную сторону руки, чувствует, что тот поддается на миг, пора! – думает он молниеносно, собирается с силами, вкладывает их без остатка в одно-единственное движение, лицо Испанца искажается, и рука его падает на стол.
Зе Мигел заставляет его трижды стукнуться о столешницу костяшками пальцев. Испанец вырывается и, растолкав зрителей, без единого слова выскакивает за дверь.
Зе Мигел просит принести пять бутылок пива, пусть их запишут за Испанцем, придвигает три, выигранные в карты, и начинает открывать одну за другой, сдирая крышки о край скамьи; затем берет с полки кружку и льет в нее пиво.
– Пейте, кто хочет. Мужчин на пяди не мерят.
А теперь эта рука у него болит, крепкая рука, снискавшая ему такую славу среди водителей автофургонов в те часы, когда он ждал возвращения рыбацких лодок и баркасов, а потом несся как угорелый по этим дорогам, хорошее времечко, Зе, хорошее времечко! Немало ящиков пива выпито мной и всеми, кого я угощал, за счет побед, что одержала моя левая рука, та самая, которая сейчас ноет и чуточку тяжелее, чем правая, и пальцы которой, почти как боль, ощущают подспудную угрозу крадущейся исподволь капельки крови, медлительной и неуклонной, она может принести ему смерть в один миг. Он и боится, и хочет, чтобы так было, хотя предпочел бы врезаться в белую стену на скорости свыше ста.
Ему снова вспоминается песня Марии Сарги:
Коли смерть была бы корыстной,
Бедняки бы все потеряли!…
Богачи бы жизнь покупали,
Чтобы лишь бедняки умирали.
Может, кто-нибудь захочет купить его жизнь?!
Сказать по правде, он и сам не купил бы.
Теперь он даже не сможет поторговаться со смертью, предложить ей полновесную монету, разве что смутное обещание новой войны, еще похлеще той, я человек не для всякого времени, уже доказано, я гожусь только в те периоды, когда каждый устраивает свою жизнь, не беспокоясь о других, но ему не понять, даже если б ему разжевали и в рот положили, что сама смерть стала корыстной в мире, задубевшем от отчуждения.
Неторопливой и послушной стала она для тех, кто даже во время войны умеет купить себе местечко в тылу.
Зе Мигелу не дано знать многие тайны своей драмы. Он даже не подозревает, что песнь Марии Сарги стара, ей почти век, это наивная песнь былого времени, более простого, а теперь все служит предметом купли-продажи – все, кроме совести тех людей, которые яростно отказываются от всяких сделок. Зе Мигел не подозревает, что выбрал путь сделок. А может, теперь уже догадывается, но поздно. Его ущербное будущее – из времен минувших, существующих за пределами реального времени, которое принадлежит людям, по-настоящему человечным.
Жизнь покупается на пограничной черте, за которой – абсурд. Зе Мигелу это неизвестно – может, потому, что его монета не поднялась в цене за счет ажио [16] великих заговоров.
Ему показалось, что он у цели. Более того, он почувствовал, что оказался в кругу неприкосновенных, так и не поняв, что они допускали его в свой круг, пока им было на пользу неистовое честолюбие этого первобытного человека, служившего им верой и правдой.
Этот сложный и прихотливый разряд людей разборчив, чертовски разборчив, и рано или поздно, но непременно выталкивает из своей среды тех, кто не принадлежит к ней, не подходит или не приносит пользы. Зе Мигел больше не приносит пользы. Он мешает. Износился и мешает. Он – чужеродное тело, он – лишний. Общение с ним неприятно. Он стал грубым, у него оскорбительный тон.
Но его будущее принадлежит ему. Они оставили за ним право распорядиться собственным будущим, что не всем позволено; они дают ему во всей полноте и во всей мере ответственности право решить, какой смертью он умрет, если не предпочтет сесть на скамью подсудимых по обвинению в злостном банкротстве – в надежде на поблажку ввиду наличия смягчающих обстоятельств.
Но он уже сделал выбор. Всегда был человеком решительным.
Если к нему смерть прибывает на колесах, то у него есть «феррари», как раз для такого рода путешествия – прекрасного путешествия владетельного сеньора, снедаемого тревогами. По крайней мере по отношению к нему смерть не проявляет корыстолюбия. Дается ему сполна, почти не противясь, без рекомендательных писем и чеков на предъявителя, а ему самому в свое время немало всякого такого понадобилось, чтобы покупать разрешение на проезд и благосклонность влиятельных лиц, когда он занимался контрабандой и черным рынком.
Он всегда умел точно определить цену оказанных ему услуг. Многие из тех, кому он платил, теперь обвиняют его в расточительстве. И припоминают случаи, иллюстрирующие их рассказы, забывая о том, что поощряли его сумасбродства, может быть, потому, что его сметливость и богатство воображения восхищали их – когда были направлены на удовлетворение их прихотей.
Сам доктор Каскильо до Вале, которого Зе Мигел прозвал своим транзистором, иронически вздергивает бровь, когда вспоминает историю про полдюжины раков-отшельников: Вдовушкин Малец – кличка Зе Мигела в этих краях – послал за ними грузовик в Сан-Мартиньо-до-Порто, когда супруга лейтенанта Жулио Рибейро была беременна своей первой, Мито, и муж, а также друзья его опасались, что, если не удовлетворить какое-то желание доны Эмилиньи, это скажется пагубно на состоянии высокородного плода.
Зе Мигел знал, сколь ценны знаки благоволения лейтенанта, и платил за них не скупясь.
– Потратил конто на пустяки, – заключает словоохотливый юрист, благосклонно делясь с друзьями своими сведениями.
– Поговаривают, что полтора: за ними пришлось послать краболовов в бухту, и хозяин запросил по сто пятьдесят эскудо за штуку. Вот и считайте.
– Воистину князь эпохи Возрождения под личиной шофера. Дона Эмилинья таких денег не стоила.
– А тем более Мито, которая уродилась нудной привередой, – подводит итог Тараканчик из Управления финансов; голос у него писклявый – возможно, потому, что Тараканчик похож во всем на одну свою тетку с отцовской стороны, неприятнейшую особу с гадючьим языком: можно подумать, что дух ее поселился в долговязом теле племянника-чиновника.
Если бы Зе Мигел увидел, как они сидят в клубной библиотеке и упиваются мурлыканьем, тлетворным от избытка яда, он сказал бы, что ведьмы расчесывают волосы, потому что, хотя с языка у них ливмя льет злословие, они не скупятся на фальшивые улыбки в адрес тех, кто к ним подходит, сияют как солнышко при виде лейтенанта, когда тот, в высоких сапогах и со стеком в руке, направляется к ним, дабы рассказать кучу небылиц из времен своей службы в кавалерийской части в Торрес-Новас, где он оставил по себе славу враля и забияки.
Перемывают банкроту косточки, рисуя во всех подробностях картину суда: сущая круговерть, заимодавцы оттесняют друг друга, каждый норовит урвать кус, причем у многих не будет ни векселей, ни даже расписок; а Руй Диого Релвас, Штопор, у всех на виду будет дирижировать этим ростовщичьим духовым оркестром. Адвоката считают сообщником Зе Мигела, хотя те, кто так думает, тоже были его сообщниками; адвокат пытается обелить 438
себя, ссылается на уголовный кодекс, он-де при всех обстоятельствах чтил его, как Священное писание. Есть слушок, что на него собираются подать жалобу в адвокатскую коллегию, кое-кто уже потирает руки от радости, кумушки счеты сводят – правда наружу выходит, правда – она как оливковое масло: всегда всплывет на поверхность; но простаки забывают, что оливковое масло бывает разного сорта, в данном случае оно грязное, зловонное, с горьким привкусом.
– Я помогал ему вести деловые переговоры, только и всего.
– Говорят, на суде он расскажет, сколько кому давал, какие делишки обделывал во время войны и кто его при этом покрывал, – уверяет Тараканчик; при столь изнеженном голосе цвет лица у него как у цыгана.