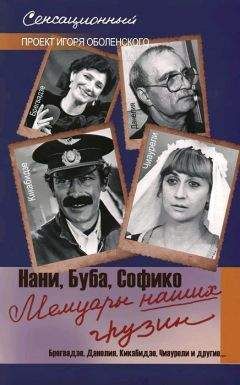(Понимаю, насколько данное описание напоминает соответствующий пассаж из бессмертного произведения «Москва– Петушки», но ничего с этим поделать не могу. Потому что именно так всё и происходило.)
Разомлели все: кто на гитаре бренчит, кто санитарок за попы хватает – хорошо...
И тут в запертую наружную дверь стучат, причём настойчиво. Выглядываем – ни тебе «скорой», ни халатов. Стоит мужик и до нашего помещения колотится. Ну, мало ли, отправляем девочку проверить, что за на фиг, а затем выгнать наглеца без права на возвращение. И тут видим, что дверь она открывает и мужика внутрь ведёт. А он руками машет, объясняет чего-то. И видно, что чувствует пациент себя неважно. Санитарка же идёт белая вся, с глазами по три рубля одной монетой, и только рот открывает-закрывает.
Народ, издалека на это дело посмотрев, по походке диагноз ставить начал.
– Аппендицит.
– Да ну, стал бы он при аппендиците так скакать резво!
– Не, мужики, на панкреатит похоже. При нём боли опоясывающие, точно.
– Сам ты панкреатит! Мужик под пятьдесят, откуда? Была бы баба – тогда да.
– Да не, а может, у него колика? Печёночная. Холецистит это.
В этот момент товарищ подходит к стойке и, дыша перегаром, на живот себе показывает.
– Не, ну бл..., сидели, как люди, а он, бл..., на хрен, во! Я ему чё, ни хрена, нормально всё. А он, бл... – во! А на хрен, когда нормально сидим? Больно, сука. Он, сука, гондон, мне во чего... А так нормально сидели, бл... Козёл, на хрен.
Доступно так анамнез изложил. Доходчиво.
Тут, кто ближе сидел, через стойку перегнулись, и я в том числе. Посмотреть. А у мужика из живота нож торчит, по рукоять почти. И не кровит уже. Они с соседом на кухне за жизнь беседовали. Сосед остался неудовлетворён, видимо, формой аргументации по какому-то из обсуждаемых вопросов. И переаргументировал посвоему. Благо, в доме напротив дело было. Идти недалеко.
Панкреатит, в общем, как и было сказано. Ага.
Ну, народ, хоть и выпимши, забегал. Страдальца этого на каталку и в шоковую, чтоб не бегать далеко. Нож вынули, пузо заштопали, недели через две домой ушёл. Ничего важного не зацепило, как по пьяни и полагается. Был бы трезвый – или печень, или кишечник распороло бы. Как пить дать.
Бывали и курьёзы совсем невнятные.
Сижу, тружусь. Знакомые ребята с 4-й станции заходят. Хихикают.
– Ну, здорово! Привезли чего или так?
– А то! Вон, суицид принимай!
– Где?
– Да вот же!
– Ой...
Бабулёк. Лет 150-ти на вид, но на ногах стоит. Росту – ну метр двадцать, никак не больше. Усохла, наверное. Морда лица распухшая настолько, что глаз вообще не видно, одни губы и щёки.
– А чего это с вами, бабуленька? – спрашиваю.
– Да ты брось, Серёга, она уже лет двадцать ничего не соображает. И не разговаривает совсем. Ты гляди, чего она нажралась! Только перчатки надень.
И упаковку полиэтиленовую на стол бросают, початую изрядно. А там – отбеливатель какой-то промышленный, чистый хлор, если по запаху судить. Как бабку насквозь не прожгло, ума не приложу. Вяленая была, что ли? А бабулёк стоит, глазами моргает, оживилась вся. И где она только эту дрянь нашла?
– Мужики, а с чего вы взяли, что суицид? Может, у неё органолептические девиации в фазе обострения? Токсикоз какой, на фоне ложной беременности, а?
– Не, ну ты скажешь! А куда её, с таким ожогом?
И то верно. Ожог – что-то с чем-то. Случай явно наш. А суицид не суицид – она разве скажет, если и так уже двадцать лет молчит?
Начинаю бумаги оформлять, промыватьто всё равно бесполезно, только хуже будет. Пишу историю, со «скорой» шуткамиприбаутками перекидываемся. Бабусика же на стульчик посадили. Во-первых, чтобы не отсвечивала, а во-вторых, чтоб не рассыпалась по ходу дела, мало ли.
И тут боковым зрением замечаю – чтото неправильное происходит. Поворачиваюсь – а бабулёк жестом фокусника свежую упаковку отбеливателя откуда-то выудила, не менее сноровисто вскрыла и шустро так, щепотью, его себе пихает в то место, где у неё когда-то рот был! Вот зараза. Отбираю упаковку, попутно пытаясь не обжечься.
Вы бы видели это возмущение! Свиристит, отбеливателем плюётся – только уворачиваться успевай, чтоб глаза не выжгло! Кое-как упаковали, чтобы остатки бабушки не попортить, и на отделение переправили. От греха. А то мало ли, где и что у неё ещё заныкано.
А ведь все эти больнично-скоропомощные развлечения накладывались на институтскую программу, которую хочешь не хочешь, а учить и сдавать приходилось. Зачастую на фоне полутора ставок, а это – сутки через двое. А что в рабочие сутки в институте пропускаешь – то по вечерам отрабатывать. Надо отдать должное факультетскому начальству – с пониманием относились. Всё-таки мы все по специальности трудились, премудрости профессии с самых низов постигая. Полы мыли, санитарили, позже фельдшерили. На сон времени, правда, почти не оставалось. Досыпали на лекциях, если туда попадали. На практических занятиях, впрочем, тоже. На анатомии, помню, хорошо спалось, под формалин. Оно, конечно, не эфир и не хлороформ, но тоже ничего было. И ведь на всё времени хватало! И на пьянство, и на прочие безобразия. И даже учились неплохо. Молодые были.
Вот как-то ночью сижу у себя в «приёмнике». Звонят – открываю. А там одногруппник Дима, с 12-й станции. Привёз гастарбайтера суицидного. Фамилию его до сих пор помню (не Димину, у него другая) – Насруллаев. С двумя «л». Значимая такая фамилия, в четыре утра особенно. Насруллаев поссорился с женой и через это решил сделать конец своей жизни, немножко тазепаму поев. То ли препарат просроченный попался, то ли тех трёх таблеток оказалось маловато, но сволочь Насруллаев был бодр и разговорчив. Однако оформлять-то всё равно надо. Психиатр разберётся, а наше дело маленькое. Заполняю бумаги. А Дима хоть в конце смены, но тоже бодрый. Нервничает, ему утром зачёт по химии пересдавать. Я тоже нервничаю, потому что не менее нервный Насруллаев мельтешит и нервирует нас с Димой с каждой минутой всё больше и больше.
– Так, Дим, паспорт его где?
– Да вот, держи. Слушай, а что там с альдегидами этими? Они то ли окисляются, то ли нет.
– Окисляются, не волнуйся. Год рождения? Шестидесятый? Да не твой, мудака этого.
– Ты, слушай, кому «мудак» говоришь? Зачем мудак? Да! Мудак!!! На этой сука женился, всё ей покупал – мало! Сапоги купил, туфли-шмуфли – мало ей, билят, всё.
– Слушай, а эти все, тригалогениды, они окисляются?
– Кто? Какие-такие гниды? Дима, зачёт – по химии, при чём тут вши?.. Так, проживает по адресу... Там точно только тазепам?
– Точно вроде. Я про хлороформ, йодоформ этот.
– А! Не, йодоформ, по-моему, не окисляется. Если не вру.
– Слушай, ну зачем женщин такой сука, ты мне скажи! Я ей всё, да, ресторан-шместоран, она мне – на хрен иди! Я так жить не буду, она виноватый, ты понял?! Ты меня зачем лечить привёз?
– Не засти, страдалец, задолбал. Я тебя не привёз, это он вот. Я тебя вообще урою сейчас, вместо лечения. Кстати, там, в зачёте, ещё эфиры есть, я вопросы видел. Гепатитом болел?
– Я? А, тьфу.. А что за эфиры, чего хотят?
– Да там вроде в общем виде всё, по верхам. На станции пролистаешь, не сложно. А ну заткнись, блин, достал! Это я не тебе, Дим.
– Да ясно, что не мне.
– Деньги, ценности при себе есть?
– Слушай, я тебе денег дам! Да! Можешь забирать этот сука, што хочишь, с ней делай, вапще забирай совсем! Мне не надо, я жить не буду...
– Не, я со своей не знаю, что делать, а тут ещё и твоя. Дим, тебе не надо? Он и денег даст.
– Нах, у меня зачёт завтра. Нет, сегодня.
– Слышь, нам обоим не надо, сам разбирайся. Переодевайся вон, в халат и тапочки.
– А ты вечером что сегодня? Да не ты! Ты вечером в дурке будешь, если не заткнёшься.
– Я на сейшн, Гриша-Шлягер из Ферганы вернулся.
– А-а... не, мы в общаге бухаем, там день рождения у кого-то, подъезжай после сейшена.
– Если не убьюсь в умат с устатку – подгребу. Вечером ещё лабу по физиологии отрабатывать, зараза.
– Ну, лады, в полдевятого в кофейне.
– Давай. Сопроводиловку оставь только.
Так и жили. Сегодня так уже не получается, силы не те. А тогда легко всё было, ни тебе давления, ни тебе радикулита.
А ещё частенько с детьми дело иметь приходилось, поскольку иные пили взрослее взрослого, а в вытрезвитель их нельзя было. Не водилось тогда детских вытрезвителей. Не говоря уже про двенадцатилетних мутантов с диагнозом «хронический алкоголизм, полинаркомания, токсикомания». А куда денешься – такой вот экстремальной педиатрией тоже приходилось заниматься.
Мальчика привезли. Обычный такой мальчик, ничего особенного. Тринадцати лет. Пьяный только сильно. А так как в вытрезвитель его, мальчика, нельзя, то его к нам, в лечебное учреждение. Порядок такой. Наверное, чтобы в вытрезвителе его плохому не научили. Как будто у нас можно было научиться хорошему!
Так вот. Мальчик. Одет – не то чтобы стильно, но с некоторой претензией. Пиджак 48-го размера на голое тело, штаны тренировочные, сапоги кирзовые. То есть с претензией одет, но неброско. Благо, лето на дворе и не холодно.