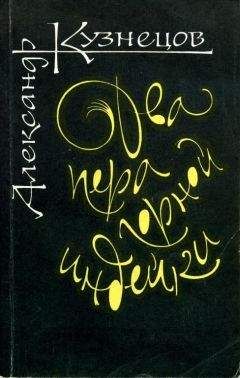Мы склонились над пеленой.
— Наша, северная... — самодовольно проговорил Григорий.
— Прекрасная вещь! — вздохнул я.
— А чем она прекрасна? Вот я не понимаю. Ручки маленькие, ножки как у рахитика... На людей непохожи. Что вот в них ценится? И в иконах тоже?
— Разве в этом дело?
— А в чем дело? — настаивал он.
— Это же время. Традиция, канон, только и всего. Мне это не мешает. Условность даже усиливает впечатление. Посмотрите, женщина с трагической судьбой. Это мать, мать, которая наперед знает, что ее сын погибнет. Ужасной смертью погибнет. Грусть, горе, скорбь... Это картина. Большой силы. А техника! Бесценная вещь!
— Хорошо, что вы не ломаетесь, не хитрите, говорите, что есть. — Он сворачивал уже пелену трубкой. — А то тут были одни москвичи, увидели и начали: «Так, тряпица... Ничего, в общем... Так себе...» Цену сбивали.
— А вы ее продаете?! Сколько же она стоит? — Я даже приблизительно не мог представить эту вещь, выраженную в деньгах.
— Нет, продавать я ее не собираюсь.
— Подождите, не убирайте, пожалуйста, хочу посмотреть обратную сторону, — взмолился я.
Григорий только распустил пелену и тут же собрал. Словно дразнил меня. На обратной стороне пелены по красной земле была вышита надпись, надпись большая, прочесть ее я не успел. Григорий с гордым видом засунул вновь свернутую трубкой пелену во внутренний карман пиджака.
Хоть мне и неприятна была такая невежливость с его стороны, но я искренне сказал:
— Да... Вам можно позавидовать. Да что говорить, такой вещи любой музей был бы рад. Ведь их остались считанные единицы. Специалисты, наверное, знают их всех «в лицо». Такую вещь грешно даже держать в своей коллекции. Интересно, как она вам досталась? Если не секрет.
— Как досталась? А очень просто.
И Григорий Петрович рассказал, что по роду своей службы часто приходится бывать в отдаленной сельской местности. В глухих деревеньках он всегда интересуется, не осталось ли каких-нибудь икон от стариков. И вот однажды один человек ответил ему на его вопрос так: «Икон у меня нет, а вот тряпка какая-то валяется. Она вроде иконы. Бабка ее берегла, в сундуке держала до самой смерти. Поставишь бутылку красного, я тебе ее принесу». «Посмотрим, что за тряпка, стоит ли бутылки», — ответил Адаров. И парень принес эту самую пелену. Увидев ее, Григорий сказал: «Да за такую тряпку ставлю две бутылки белого». «Две не надо, и белого не надо, — ответил парень, — я на работу иду. Ставь бутылку красного и забирай».
— Вот это да! Ох, повезло! — качал я головой. — Это надо! Подумать только!
Мы перешли на кухню. Хозяин предложил было выпить спирту, но я наотрез отказался. Стали пить жидкий чай, продолжая разговаривать про иконы. Я хотел продиктовать ему небольшой список популярной литературы по древнерусской живописи, но он, к моему удивлению, стал отнекиваться. Я настаивал, мне хотелось, чтобы он прочитал хотя бы одну книгу, самую простую и доходчивую, но он не стал ничего записывать, а спросил:
— Вот ты мне скажи, как ленинградцы добывают иконы?
Григорий Петрович несколько раз и раньше пытался перейти со мной на «ты», но у меня это почти никогда не получается с малознакомыми людьми.
— Ездят, как вы или я, собирают. Обмениваются, покупают.
— Сколько стоит такая Троица, что у меня? Храмовая, большая.
— Понятия не имею... Никогда не покупал.
Григорий, кажется, мне не верил.
— Где же ты взял свои иконы, если не покупал? У тебя же есть иконы.
— Собирал. Отдавали в подарок, в брошенных домах находил. В Тотьме одна совершенно незнакомая женщина подарила мне роскошного Николу XVI века. Я его реставрировал. Лучшая моя вещь.
Григорий стал расспрашивать меня о реставрации, и я рассказывал ему все, что знаю об этом. Жена его так и не вышла к нам и, когда он стелил мне на диване, что-то резко крикнула из коридора. Адаров вышел, прикрыл дверь, и в голосе его зазвучали уговаривающие, успокаивающие интонации. А когда они вместе стали переносить в маленькую комнату детскую кроватку, я пожалел, что не остался ночевать в палатке на берегу реки.
Перед сном я попросил Григория Петровича еще раз показать мне пелену, но он помялся и сказал:
— Давай завтра, а то рано вставать, да и вообще...
Что он имел в виду этим «вообще», я не понял. Но настаивать не стал.
Спал я неспокойно. Пелена «Богоматерь Владимирская» стояла передо мною и не давала уснуть. Чего греха таить, я думал о том, что Адаров владеет ею по недоразумению, что было бы куда лучше, справедливо, если бы такая вещь висела у меня в Ленинграде. Я мысленно перевешивал картины деда, витрины с финифтью и мелкой пластикой, чтобы найти место для «Богоматери Владимирской». И она сделалась центром композиции в большой комнате с высоким (четыре с половиной метра) потолком.
Казалось, не успел я заснуть, как Григорий Петрович разбудил меня. Он очень торопился, мы едва успели обменяться адресами и направились почти бегом к гаражу. При выходе из парадного Адаров опять тревожно оглянулся по сторонам и тогда уже пропустил меня на улицу. Пелены я так больше и не увидел.
Вечером того же дня я был в Сольвычегодске. Переночевал в общем номере маленькой деревянной гостиницы, а наутро стоял перед Благовещенским собором, который видел до этого лишь издалека, с другой стороны реки Вычегды. Вблизи собор оказался величественным сооружением из белого камня, храмом-крепостью. Высокие алтарные апсиды выглядели как крепостные укрепления, мощные лопатки-контрфорсы[9] словно символизируют неприступность, узкие щелевые окна — те же бойницы. Крепость, вросшая в землю навечно и непоколебимо. А за собором — река. Широкая, с чуть видимым противоположным берегом. Водный простор еще больше подчеркивает впечатление мощи крепости.
Мне известно, что у деда была такая картина: церкви Сольвычегодска, а за ними река. Называется она «Соляной городок». Но где находится эта картина, до сих пор неизвестно. «Соляной городок» несколько раз упоминается в письмах деда, он называл эту картину удачей и говорил, что она есть лучшее из того, что удалось написать на Севере. Искусствоведы ее долго искали, но так и не нашли. Отец как-то высказал мысль, что картина эта могла остаться в Сольвычегодске, ибо ни в Ленинград, ни в Москву дед ее не привозил.
Когда-то Сольвычегодск был столицей восточной части северного края и Урала. В XVI — XVII веках он принадлежал к числу городов, в которых происходило становление России как государственное, так и духовное, эстетическое. Именно здесь, в Великом Устюге, в Тотьме и в Сольвычегодске, в городах, стоящих на водных путях в Архангельск и в Европу, закладывались основы торговли с Западом, именно здесь создавались величайшие произведения русского искусства, являющиеся теперь предметом нашей гордости и восхищения. Сольвычегодск сделался нынче небольшим селом с несколькими лечебными заведениями. Сюда приезжают для лечения грязями одновременно сотни три больных. Они и становятся основными посетителями музея в нелетнее время. Но и летом туристов тут не так уж много, куда меньше, чем в Пскове или Новгороде. От Котласа сюда добираются водой. Кругом всё топи да болота.
Пройдя по городу, я обнаружил еще школу-интернат, клуб, библиотеку да несколько магазинов. Вот и весь город, все достопримечательности, если не считать стоящего в стороне собора Введенского монастыря и еще одной полуразрушенной церковки. От самого Введенского монастыря не осталось никаких следов, но церковь его еще стоит и радует любителей русской старины, ибо храм этот великолепен. В нем архитекторы воплотили все лучшее, что принесено русскими в строительство в XVII веке, а это был век расцвета нашей архитектуры. По своему совершенству это храм такого же порядка, как церковь Иоанна Предтечи в Ярославле, церковь Вознесения в Великом Устюге или храм в Филях в Москве. Красный кирпич и украшения из резного камня, затейливый резной орнамент входного крыльца, фигурные колонки, капители, арки, гирьки, карнизы, причудливые наличники окон и, наконец, замечательные пятицветные изразцы — вся эта пестрота не рябит в глазах, не раздражает, а складывается, если чуть отойти, в единое целое, в монументальный храм, величественно устремленный ввысь... Было у зодчих, создавших собор Введенского монастыря, чувство меры: еще бы чуть-чуть пестрых деталей, и общая композиция была бы нарушена, расплылась бы, разменялась на мелочи. Но они грань эту не перешли.
Интересно, что два сохранившихся здесь храма как бы стоят по краям золотого века Сольвычегодска. Благовещенский собор Аника Строганов начал строить в 1560 году, а церковь Введенского монастыря другой Строганов — Григорий, поставил в самом конце XVII столетия, с окончанием которого началось стремительное увядание Сольвычегодска и всего края. И вот судьба распорядилась так, что из тринадцати церквей города, из тринадцати памятников русской архитектуры, памятников истории и культуры Севера и всей Руси, не были взорваны и развалены неразумными людьми именно эти два храма — самый первый и самый последний.