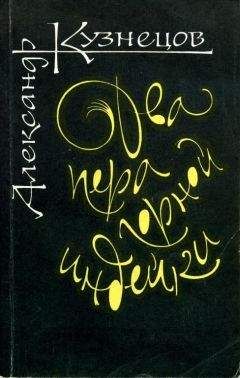Я смотрел и улыбался. Они оба вопросительно глядели на меня, а я молчал и улыбался.
— Уж не она ли? — робко спросила наконец Мария Васильевна.
— Она.
Тут я принялся рассказывать им все, что мне было известно о «Соляном городке». Рассказал, как дед приезжал сюда в 1886 году к своему сосланному в Сольвычегодск брату-народовольцу. Как писал он в письмах об этой картине, называя ее своей удачей, как искали ее искусствоведы, как погибший на фронте мой отец советовал мне попытать когда-нибудь счастья именно здесь. Видимо, мое воодушевление передалось в какой-то степени и моим слушателям. Иван Игнатьевич стал не только улыбаться, но и гыкать, а Мария Васильевна спросила, не могу ли я прислать им копии писем деда.
— Мы бы сделали выставку работ Сергея Сергеевича и использовали бы письма для экспозиции, — сказала она.
Я пообещал прислать. Пообещал, а сам, грешным делом, подумал: «Не здесь надо делать выставку с этой картиной, где ее увидят всего несколько больных с грязей. Картину надо перевозить в Русский музей».
— Поздравляю вас, — говорила научный сотрудник музея, — мы сделали сегодня интересное открытие. Скажите, пожалуйста, вы думаете писать что-нибудь по этому поводу?
— Я — нет. Но полагаю, нашим открытием заинтересуется Русский музей. Ждите оттуда гостей в ближайшее время. А теперь давайте снимем картину и вынесем ее на свет: надо сделать несколько цветных слайдов.
Иван Игнатьевич помрачнел.
— Нет, — сказал он, — этого делать мы не будем.
— Почему? — удивился я.
— Не уполномочены, — невозмутимо ответил директор. — В письме Русского музея ничего об этом не сказано. Да мы Русскому музею и не подчиняемся, нами руководит районный отдел культуры. Надо получить разрешение.
— Иван Игнатьевич, но при нас же... — пробовала вступиться Мария Васильевна.
Но он только сверкнул на нее своими маленькими глазками:
— Нет! Не имеем права.
— Но здесь, на стене, я не могу ее сфотографировать, не хватает света. Что случится, если мы вынесем ее к входной двери?! — просительно, но уже с раздражением проговорил я.
Но тот стоял на своем:
— Без специального разрешения снимать копии и фотографировать в музее нельзя.
Ну что ты скажешь?!
— Не могли бы вы объяснить мне, уважаемый Иван Игнатьевич, смысл этого запрета? — Я уже с трудом сдерживал себя.
— Могу. Смысл могу, — парировал он. — Пойдемте со мной.
Мы прошли в отдел древнерусского искусства, миновали несколько комнат и остановились в зале со строгановским лицевым шитьем. Я успел только заметить знаменитую пелену с изображением Дмитрия-царевича и огромную плащаницу «Олигрин Коряжемский», которые знал по репродукциям, как Иван Игнатьевич подвел меня к закрытой легкой занавеской стенке из фанеры и отвел занавеску в сторону. Слева висела пелена «Богоматерь Казанская», а правая часть стенки была пуста.
— Вот здесь, — ткнул пальцем в пустое место Портнов, — висела пелена «Богоматерь Владимирская». Почти три года назад эта пелена была отсюда похищена при таинственных обстоятельствах. Специальной комиссией, созданной следственными органами, в которой участвовали товарищи из музеев Кремля, пелена была оценена не менее чем в пятьдесят тысяч рублей. Не менее чем в пятьдесят тысяч рублей, я подчеркиваю. Это «не менее» говорит о том, что она стоит дороже. Государственное хищение стоимостью более пятидесяти тысяч рассматривается Уголовным кодексом РСФСР как особо тяжкое преступление и наказывается высшей мерой наказания. Был объявлен всесоюзный розыск. Разосланы фотографии этой вещи, приняты и еще кое-какие меры, о чем вам не полагается знать, но пелены не нашли. Никаких материалов следствие до сих пор не имеет.
Иван Игнатьевич остановился, но я, совершенно ошеломленный, тоже молчал. Тогда, кинув на меня победоносный взгляд, он продолжал:
— Директором тут в то время была одна женщина. Очень уж умная была. Слишком образованная. Сняли ее за это. А я тогда работал в горисполкоме. Образование у нее, может быть, побольше, чем у меня, мы во время войны педучилище в Тотьме заканчивали за полтора года вместо трех, некогда было долго учиться, зато порядок заведен в музее иной. Теперь тут мышь не проскочит. Вот почему нельзя фотографировать. Ясно вам теперь?
— Ясно...
Мне стало ясно совсем другое: я обязан удостовериться в том, что видел не эту, не краденую, а другую пелену. Я уже твердо знал, что не найду себе покоя, пока не буду уверен в том, что у Адарова была не эта пелена. С Иваном Игнатьевичем дела иметь не хотелось, и я судорожно думал о том, как мне поступить.
Не исключено ведь, что это совсем другая пелена. Разве не могли строгановские мастерицы изготовить несколько «Богоматерей Владимирских», несколько «Казанских» или «Тихвинских»? Сколько «Спасов на троне», «Спасов во славе» и «Спасов Вседержителей» писал за свою жизнь каждый иконописец в те времена? Один человек мог создать сотни таких икон. Так почему же это должна быть обязательно именно та пелена? Нет... спешить не надо.
— Мы подозреваем двух московских художниц, — говорил тем временем Портнов, — они работали в музее перед похищением пелены 16 дней, снимали копии со старинных тканей. Когда мне об этом доложили (а я в то время исполнял обязанности председателя горисполкома), я сразу принял меры: следственные органы произвели выемку почтово-телеграфной корреспонденции, произвели обыск и личный обыск, установили наблюдение. Понятно, художницы ударились в амбицию, в слезы, жалуются и так далее. Им удалось послать телеграмму в Москву. Разрешили уехать. Но они все же имели возможность в день кражи двенадцатичасовым катером отправить с кем-нибудь пелену в Котлас. Из Сольвычегодска в Котлас летом идут два катера: в двенадцать и в шестнадцать. Пассажиров вечернего катера мы проверили, а утреннего — нет. Народу ехало тогда много, июль, самый разгар лета, на катере было много неизвестных личностей.
«Григорию пелена досталась от сына умершей старухи, — думал я, — значит, она никак не могла быть украдена из музея. Она сто лет пролежала в сундуке. Пелена очень просто могла погибнуть, ее могли выбросить, использовать на тряпки. Это счастье, что она попала к Григорию, хотя место ей, безусловно, в музее. Однако если я сейчас скажу Ивану Игнатьевичу об Адарове, он скрутит Григория в бараний рог. Оскорбит достоинство человека, это ему ничего не стоит. А я буду выглядеть доносчиком».
Мне представилась такая сцена.
«Иван Игнатьевич, — сказал бы я, — послушайте меня внимательно. Подобную пелену я видел вчера вечером. Да, да, я утверждаю, что не позже чем вчера я собственными глазами видел строгановскую пелену XVII века «Богоматерь Владимирская» и держал ее в руках. Возможно, эту самую пелену, вот отсюда», — кивнул бы я головой в сторону пустого места на стене.
У Портнова отвисает челюсть. Маленькие его голубые глазки стали круглыми.
«Вы шутите?» — спросит он осторожно.
«Помилуйте, какие могут быть шутки? Если хотите, я могу вам описать, как она выглядит, дать основные приметы, так сказать, а вы решите сами, она ли это».
«Да, пожалуйста...»
«Размером она такая же приблизительно, как эта, «Казанская», — кивнул я опять на стенку. — Основа темно-красная или малиновая. По сюжету это Богоматерь «Умиление», то есть младенец изображен прикасающимся к щеке матери. Изображение вышито золотой и серебряной нитями; кажется, еще цветным шелком. Внизу надпись. Вот что написано, не разобрал. Думаю, «Богоматерь Владимирская» и написано. По нижней стороне бахрома из кистей. С обратной стороны золотом вышита большая надпись. В ней упоминается фамилия Строгановых».
Иван Игнатьевич схватит вдруг меня за руку. Прямо как будто я к нему в карман залез. Я попытаюсь вырвать руку, но хватка у него, наверное, бульдожья.
«Пройдемте, — скажет он, — пройдемте в мой кабинет».
И я буду чувствовать себя униженным и оскорбленным. Затрясусь весь от негодования и скажу:
«Прежде всего отпустите мою руку. Что за хамство такое?! Я не собираюсь никуда бежать».
Он разомкнет пальцы.
«Вот теперь пойдемте, — скажу я, сдерживаясь, — а то что за манера брать человека за шиворот?! Я удивляюсь вам, Иван Игнатьевич!»
«Садитесь. — Портнов подчеркнуто сухо произнесет мое имя и отчество и укажет на стул. — Отвечайте на мой вопрос: «Где, когда и при каких обстоятельствах вы видели пелену «Владимирская Богоматерь»?»
Ах, как бы хорошо было отшить одной фразой, поставить на место этого сомкнувшего на моей шее свои железные челюсти бульдога! Но я знаю, что растеряюсь и не смогу этого сделать. Только потом уже, спустя некоторое время, придумал бы я несколько фраз, которые надо было сказать в тот момент. Такую, например: «Потрудитесь, глубокоуважаемый Иван Игнатьевич, изменить тон разговора. Я считаю для себя унизительным разговаривать с вами». Нет, нехорошо. Лучше так: «Не кажется ли вам, уважаемый Иван Игнатьевич, что ваше хамское поведение не способствует успеху дела? Пелену нашел я, и именно я буду решать, как здесь поступить». Тоже не очень... Но, скорее всего, я бы сказал: