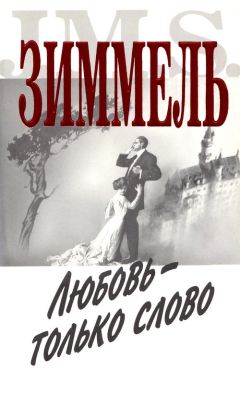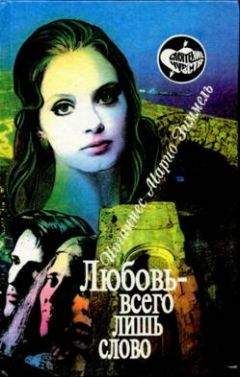— Нет!
— Ты не знаешь меня, ты не знаешь, какой я могу быть. Ты когда-нибудь полюбишь меня, обязательно! Я так счастлива, Оливер. Я никогда еще не была так счастлива. Ты увидишь, как я умею любить.
Она быстро целует меня, ласкает, а я думаю: Верена, Верена, Верена.
Я говорю:
— Тебе надо возвращаться в дом.
— Я не хочу.
— Тогда иди в столовую.
— Я не хочу есть.
Я тоже не хотел.
— Они будут искать нас.
— Они не найдут.
— Но я должен быть в своем корпусе.
— Еще пятнадцать минут, — говорит, просит она. В глазах ее такая преданность, что может стать дурно. После этого я становлюсь совсем добрым. — Тогда я вернусь и оставлю тебя в покое. Через пятнадцать минут?
Я киваю.
— Я ведь теперь принадлежу тебе…
Еще чего!
— …Мы оба, мы ведь теперь связаны друг с другом.
— Нет. Нет. Нет!
— …А тогда я хочу сказать тебе, что со мной случилось.
— Что это значит?
— Почему я такая… такая испорченная… И если бы ты не пришел и не спас меня…
Она произносит это слово. Как оно меня преследует. Опять «спас».
— …Тогда бы я попала в сумасшедший дом. Можно мне положить голову на твою грудь?
— Конечно.
Она сделала это, и я глажу, смеясь, ее торчащие волосы, которые выглядят так, будто она дралась с соперником, и она говорит будто во сне, поглаживая меня:
— Мне восемнадцать. А тебе?
— Двадцать один.
— Мы жили в Бреслау. Мой отец был физиком. В 1946 году нас взяли русские. Его как ученого, нас из любезности. Отец должен был на них работать. В одном исследовательском институте. Там было еще много других немецких ученых. У нас был маленький, милый домик в пригороде.
— Тогда тебе было четыре года.
— Да. И уже детский сад открылся.
— Что?
— Подожди. Русские были добры к моему отцу и моей матери, и ко мне тоже. Все! Они даже приносили нам пакеты с едой. Мне они приносили кукол и игрушки. Праздники мы отмечали вместе с соседями.
— А кто не был таким добрым?
— Дети! Я ведь говорю, мы начали ходить в детский сад, а потом, когда я пришла в школу, стало еще хуже. Хотя я свободно говорила по-русски! По-немецки я могла говорить только дома. Мой отец был обязан отработать десять лет. И я должна была ходить в школу восемь лет. Я могу сказать тебе: это было адом.
Четырнадцать часов двадцать пять минут.
Верена. Верена. Верена.
— Дети ведь слышали, что я немка…
— Ах, так.
— Немка, ну ты понимаешь. Мы напали на их страну, и многие дети в нашей школе лишились из-за войны отцов или братьев.
— Говори о себе.
— Обо мне, да. Они меня избивали. Каждый день. Иногда так били, что я вынуждена была идти к врачу.
— Ужасно.
— Мои родители забирали меня из школы последней. Затем пришел 1956 год, срок договора, который заключили с моим отцом, истек. И притащились мы в Западный Берлин. Отец работал в институте Макса Планка. И меня снова избивали.
— Кто?
— Немецкие дети.
— Что?
— Ну это же понятно! Мой отец работал на Советский Союз десять лет. Об этом дети рассказывали дома. И какой-то отец сказал своему сыну: этот ученый выдавал секреты, он помогал СССР, возможно, он коммунист. В любом случае он предатель. На следующий день мальчишки в школе знали это. Тогда все и началось. Они теперь называли меня только «свинья-предатель». Здесь меня называют…
— Я знаю.
— Но это еще не так обидно.
— Бедная Геральдина, — говорю я.
И это даже искренне.
— Ты знаешь, я уже тогда была взрослой. И сильной. Я отбивалась, кусалась и швыряла камни. И если мне угрожала опасность и вся эта свора ополчалась против меня, у меня была прекрасная уловка, чтобы защитить себя.
— Какая уловка?
— Я кричала по-русски. Так громко, как только могла. По-русски! Что я им преподносила! Иногда даже стихи! Все равно! Если я кричала по-русски, они испытывали страх! Все! Всегда! Тогда они отставали, а мне только того и надо было!
Она поднимает голову и смеется.
— Это был великолепный трюк, правда?
— Первоклассный. А дальше?
Ее лицо мрачнеет. Она кладет голову мне на колени.
— Отец — очень крупный ученый, понимаешь? Он, например, создал в Сибири детали, которые Советский Союз встраивал в свои реактивные самолеты…
— Что за детали?
— Точно я, конечно, не знаю. В общем, он сделал так, чтобы пилот самолета, имеющего безумную скорость, мог с помощью какого-то электромагнитного устройства следить за всеми важными приборами самолета. Допустим, существует пятьдесят наиболее важных устройств. Если хоть в одном из них возникают неполадки, включается громкоговоритель, который предупреждает: внимание, это не работает.
— Здорово, — говорю я.
Я действительно думаю так.
— Но самое главное — мой отец предложил произносить предостережение женским голосом. Это мне нравится больше всего. Поскольку пилоты все мужчины, женский голос сразу настораживает, пилот не может пропустить его мимо ушей.
Я говорю:
— А теперь я могу закончить твою историю.
— Да?
— Да. Американцы сделали твоему отцу фантастическое предложение, и сегодня он работает на мысе Канаверал или где-то еще. Летом тебе разрешено посещать родителей. Верно?
Она сжимает в руках стебелек и тихо говорит:
— Верно, но только отчасти. Ты прав, американцы сделали моему отцу предложение, и мы все должны были уехать. Но мой отец улетел один.
— Как так?
— Моя мать решила с ним развестись. Она утверждала, что не может больше жить с человеком, которому помогала из года в год создавать все более страшные орудия уничтожения.
— Это позиция, — говорю я.
Четырнадцать часов тридцать минут. Верена. Верена. Верена.
— Но она лгала. Все люди лгут. Моя мать решила развестись, так как в Берлине она познакомилась с очень богатым торговцем текстилем! Мой отец этого не знал. Не знает этого и сегодня. Я шпионила за матерью и ее пассией.
— Почему ты не сказала отцу?
— А почему я должна была сказать? Мать всегда была мне ближе и дороже. Отец это знал. Поэтому он согласился, чтобы я осталась с матерью.
— Ну, все ведь хорошо закончилось.
— Очень хорошо. Едва ушел мой отец, как мать снова вышла замуж и засунула меня в интернат.
— Почему?
— Новый папаша не мог терпеть меня. При любой встрече с ним мы ссорились. Мне разрешалось только иногда приезжать в Берлин. Мать тряслась каждый раз, когда я приезжала. Но отец мой был счастлив, что я воспитывалась в Германии. Во время летних каникул я летала к нему. Он постоянно работал в космическом центре на мысе Канаверал. Теперь он строит ракеты.
— Понимаю, — говорю я.
Потом смотрю на нее. Она шепчет:
— Пятнадцать минут прошли, да?
— Прошли.
— Я уже иду. Я не реву. И не удерживаю тебя. Я не буду тебе мешать, обещаю. И не буду усложнять жизнь, и себе тоже.
— Вот и хорошо, — говорю я. Мы встаем. — Уже хорошо, Геральдина. Подожди, я приведу в порядок твои волосы. — Она прижимается ко мне и целует мои руки. — И вообще приведи в порядок все остальное, — говорю я, — иначе каждый поймет, что случилось.
Четырнадцать часов сорок минут.
— Ты должен быть в корпусе.
— В четыре история. Тогда и увидимся снова.
— Да.
— Я хотела бы быть всегда с тобой. День и ночь. Пока не умру.
— Не надо, Геральдина.
— Ты разрешишь мне еще один поцелуй?
Мы целуемся. Она печально смеется.
— У тебя кто-то есть?
— Кто?
— Не спрашивай. Женщина, которой принадлежит этот браслет.
— Нет.
— Конечно, она красива. Намного красивее, чем я. И теперь ты идешь к ней. Не лги мне. Пожалуйста, не лги!
— Да, — говорю я. — Теперь я иду к ней.
— Ты ее любишь?
— Нет.
— Опять. Но мне с этим ничего не поделать, честное слово. Буду терпеть. Так как ты первый мужчина в моей жизни. Итак, до встречи в четыре.
И она пошла, спотыкаясь на высоких каблуках. Вскоре она исчезла в кустарнике. Становится тихо. Я иду по тропинке к старой башне, которая виднеется за верхушками деревьев. В руке у меня сумка, в сумке браслет Верены.
Сделав два-три шага, я слышу шум и останавливаюсь. Кто-то затравленно мчится в чаще. Я не могу его видеть, только слышу. Наверное, я не смогу его догнать, так как шаги уже затихают. Кто-то нас подслушивал. Как долго? Что он услышал? Что увидел? Все? Кто бы это мог быть?
Без двух минут три.
Я очень аккуратный, поэтому я еще и умылся.
К счастью, здесь протекает маленький ручеек. Это было чудесно — умыться ледяной водой.
Без двух минут три.
И вокруг ни души.
Я сижу на ступеньке у основания обвалившейся стены, рядом с которой висит табличка: «Опасность обвала! Проход запрещен!»