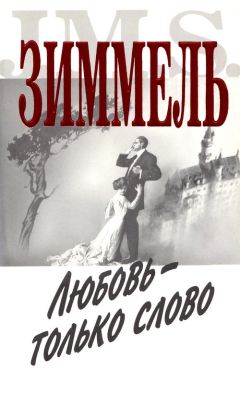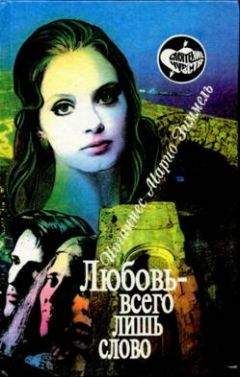— И я не хочу, чтобы вы имели при себе эту гадость! Тогда уничтожьте это. Чтобы я видел.
— Как я должна это уничтожить?
— Сжечь.
У меня есть спички.
Я медлю, прежде чем поджечь коробочку с вероналом, мне бы все-таки хотелось оставить его у себя.
Коробочка ярко горит, таблетки только обугливаются и крошатся. То, что осталось от коробочки, я бросаю на пол. Верена топчет коробочку туфлями до тех пор, пока от нее ничего не остается.
Мы смотрим друг на друга.
— Если учесть, что вы спали с аптекарем, — говорю я.
— Если учесть, что мы не сможем больше воспользоваться этой гадостью, — говорит она.
— Если учесть, что я выполнил ваши условия. Когда мы снова увидимся? Завтра?
— Нет.
— Послезавтра?
— Нет.
— Когда все-таки?
— Это возможно только через пару дней.
— Почему?
— Потому что я беременна, — отвечает она. — Вы даже представить себе не можете, в какой ситуации я нахожусь и что со мной случилось. Ничего вы не знаете! Ничего!
— Беременна?
— Вы же слышали.
Странно, в любом другом случае я тотчас подумал бы: «Да, есть повод поразмышлять». Это должна быть честная книга. Раньше, когда я писал о Геральдине, я не стал лучше, чем был. Теперь я не стал хуже.
Но с Вереной все не так. Догадался я не сразу.
— От кого вы беременны?
— Этого я не знаю.
— От этого итальянца?
— От него. Или от своего мужа.
— Вчера вечером вы сказали…
— Я соврала. Женщина должна спать со своим мужем, если она имеет любовника. Иногда это случается.
— Вы совершенно правы. Я не хотел вам вчера вечером возражать. Конечно, вы говорили Энрико, что целый год не спите с мужем.
— Конечно. Все женщины поступают так. Наверное, и вам какая-нибудь женщина говорила то же самое.
— Да.
— И?
— Я не верил этому. Но я не говорил, что я этому не верю. Нельзя быть несправедливым. Мужчины поступают точно так же, если у них есть любовница.
Некоторое время молчим. Потом я спрашиваю:
— Вы хотите ребенка?
— Боже упаси! В моей-то ситуации?
— Энрико знает?
— Энрико женат. Об этом никто не узнает. Я рассказала только вам. Почему только вам? Потому что мы уже так хорошо понимаем друг друга.
— Однажды…
— Что?
— Однажды вы полюбите меня.
— Перестаньте!
— Да-да, и такой любовью, к которой вы стремились. Я знаю это точно. Иногда бывают мгновения, когда я точно знаю, что произойдет. У вас есть врач?
— Мне нельзя рожать. — Она опускает голову. — После рождения Эвелин врачи сказали, что в дальнейшем это может быть опасно для жизни. Я должна быть в клинике. Это одна из причин.
— Причин чего?
— Что у меня в браке все так плохо, и что я так… что я такая.
— Не понимаю…
— Эвелин — внебрачный ребенок.
— Ну и что?
— Мой муж не способен…
— Так.
— Но он всегда очень хотел ребенка. Понимаете? Сына, которому он передаст свой банк. Когда я встретила его… тогда, в нищете… тогда я не сказала ему, что никогда больше не смогу иметь ребенка. Позднее я все же сказала ему об этом. Это было подло с моей стороны, да?
— Это была необходимость!
— Нет, я должна была его предупредить. При любых обстоятельствах! А потом мы с каждым днем становились все более чужими друг для друга. Он никогда не упрекал меня, то есть не было прямых упреков.
— А косвенных?
— Он… он любил меня, по-своему, в своем желании иметь ребенка он зависел от меня, и он не мог простить мне, что его мечта так и не исполнится. Он стал смотреть на меня другими глазами. Не так, как когда-то… Когда-то…
— Как на честную женщину.
— Да, именно так.
— И поэтому вы начали вести другую жизнь. Чтобы утвердиться в мысли, что вы еще женщина.
Она долго смотрит на меня.
— Вы какой-то особенный юноша, Оливер.
— Поэтому вы это сделали — верно?
Сегодня я впервые увидел Верену без косметики.
Я говорю ей об этом. Она отвечает:
— Специально, чтобы вас поцеловать.
— Но у вас ведь есть великолепная помада, которая не оставляет следов. Вы могли бы подкрасить губы, когда целовали Энрико.
— Ради этого не стоило.
— И все-таки между нами еще может быть любовь.
— Никогда. Это невозможно.
— Губная помада, — говорю я. — Губная помада подтверждает это. Надо подождать. У меня много времени в запасе.
Она удивленно смотрит на меня. Затем я спрашиваю ее:
— Когда вы скажете мужу?
— Сегодня вечером.
Я продолжаю задавать вопросы:
— В какую клинику пойдете?
Она говорит мне, в какую. Клиника находится на западе Франкфурта.
— Когда это произойдет?
— Если я завтра поеду, то послезавтра.
— Тогда я навещу вас в четверг.
— Это исключено! Я запрещаю.
— Мне ничего нельзя запретить.
— Вам нельзя сейчас рисковать.
— А я и не буду рисковать. У них наверняка есть отдельные комнаты. В приемной я укажу вымышленное имя. Я приду в первой половине дня.
— Почему в первой?
— Потому что ваш муж на бирже — или?
— Да, это верно, но…
— В четверг, Верена.
— Это безумие, Оливер, и вообще безумие даже то, что мы здесь.
— Безумие, но сладкое. И однажды наступит любовь.
— Когда? Если мне сорок. И Эвелин двенадцать.
— И даже если шестьдесят, — говорю я. — Я должен возвращаться в школу, половина четвертого. Кто пойдет первым?
— Я. Подождите пару минут, ладно?
— Хорошо.
Она идет к лестнице, оборачивается и говорит:
— Если придете в четверг, то назовитесь моим братом. Его зовут Отто Вилльфрид. Запомните?
— Отто Вилльфрид.
— Он живет во Франкфурте. — Она неожиданно засмеялась. — И сегодня вечером в одиннадцать выходите на балкон.
— Зачем?
— У меня для вас сюрприз.
— Что за сюрприз?
— Увидите, — говорит она. — Увидите сегодня ночью в одиннадцать.
— О'кей, — говорю я. — Отто Вилльфрид и сегодня ночью в одиннадцать.
Я прислоняюсь к старой обветшалой балке, которая держит потолочное перекрытие, и слежу за тем, как она спускается по винтовой лестнице, медленно, осторожно, хотя на ней туфли на плоской подошве. На повороте лестницы она оборачивается еще раз.
— И все же это безумие, — говорит она. И исчезает.
Я слышу, как она говорит что-то Эвелин, затем голоса замолкают. Я не отхожу от люка. Я не смотрю на них. Я подношу руку, которую Верена держала в своей, к лицу и вдыхаю запах майских ландышей, который так быстро улетучивается. Минуты через три я тоже спускаюсь по старой винтовой лестнице. На улице я вспомнил, что надо зайти в «Квелленгоф», так как воротник моей рубашки испачкан помадой Геральдины. Я пускаюсь рысью и мчусь, времени у меня в обрез. И мне не хотелось бы опаздывать на занятия. В тот момент, когда я побежал, я увидел, как кто-то убегает из густого подлеска. Все произошло так быстро, что я снова, как и в первый раз, не сразу смог определить, кто это был. В конце концов это смешно. На этот раз я уже был готов к чему-либо подобному. Теперь я проявил большую зоркость, и мне удалось разглядеть моего «брата» Ганси.
«Нигде не думают так ревностно, как в Германии, о войне как о наиболее подходящем средстве для решения политических проблем. Нигде больше так не склонны к тому, чтоб закрывать глаза на ужасы и не обращать внимания на последствия. Нигде так безумно не приравнивают дружескую любовь к личному малодушию». Эти выводы журналиста Карла Оссицки, который предпочел умереть в концлагере, чем уступить насилию, прочитал нам доктор Петер Фрей в начале урока истории.
Доктор Фрей — самый лучший и самый умный учитель, который когда-либо был в интернате! Он худощавый, высокий, лет пятидесяти. Он хромает. Наверное, ему разбили кость в концлагере. Доктор Фрей всегда говорит тихо, и у него потрясающий авторитет. На его уроках никто не болтает, не позволяет себе быть наглым. На первом же уроке я понял, что его, хромающего доктора Фрея, все любят. За исключением одного — преуспевающего ученика Фридриха Зюдхауса, того самого, у которого нервно подергиваются уголки рта.
Ну да, если бы мой отец был в свое время нацистом, а теперь каким-то полномочным представителем, я тоже не смог бы любить доктора Фрея.
Прочитав цитату Оссицки, доктор Фрей сказал:
— Сейчас мы подошли к 1933 году. В большинстве школ и для большинства учителей здесь возникают затруднения. А именно с 1933 по 1945 годы. Об этих годах нечего рассказывать. С 1945 все начинается снова. И именно с так называемого раздела Германии, когда всеми способами стыдливо переписывались факты, свидетельствующие о том, что страна, начавшая эту чудовищную войну, в 1945-м должна была безоговорочно капитулировать перед всеми своими противниками. Далее следует еще один маленький перерыв, и мы уже в 1948 году, на пороге экономического чуда. Я не стану рассказывать вам то, чего вы не хотите слышать! Может быть, вам также не хотелось бы узнать истину о Третьем рейхе? Тем более что истина эта далеко не прекрасна. Большинство моих коллег берутся за это легко или вообще не говорят о ней, я же раскрою перед вами всю грязную действительность — если вы этого захотите. Кто этого хочет, должен поднять руку.