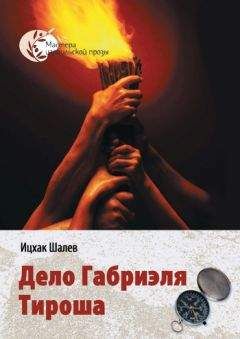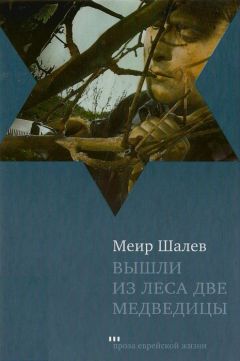Дурачась, мы устраивали ночной свадебный церемониал парня с парнем (девушек с нами не было) с чтением благословений, как это полагается по религиозному предписанию. Безделье давало досуг, и это плохо влияло даже на лучших из нас. Шутки и анекдоты были исчерпаны, и все искали нечто освежающее. Однажды в полночь я обнаружил себя и товарища на подоконнике окна третьего этажа одной из наших «гостиниц»: ошалев от скуки, мы мочились на улицу, получая удовольствие при виде прохожих, возвращающихся с поздних гулянок и не успевающих увернуться от брызг, летящих сверху. В этот момент мы и услышали выстрелы с окраины города. Хохот и веселье тут же сменились гневом и горечью. Мы валились на матрацы в ожидании кого-либо, кто освободит нас от вынужденного и бесцельного безделья и направит на настоящее дело.
Всегда моя душа была полем столкновения противоречивых чувств. Кажется, двойственность является высшим властвующим над нею законом. Никогда я не совершал поступка без того, чтобы одновременно не услышать тихую жалобу невыполненного действия. Даже сейчас, когда я сожалею о днях безделья в «Хагане», шепчет на ухо мое «альтер эго» предостерегающее ото лжи в этих строках: «Вопреки всему это были твои самые сладостные дни».
Воистину, чудесно было патрулировать с Айей почти каждый день по границам Иерусалима, по окраинам предместий – пешком или на мотоцикле, следить за всем, что происходило вокруг и передавать информацию командиру. Но, конечно же, нет человека, который патрулирует с Айей только для этого. Ждут его и другие, несравнимо более приятные вещи, чем наблюдение за арабскими кварталами. Хожу я с Айей и изливаю ей все, что накопилось в моей душе, точно так же, как и она делится со мной своими самыми заветными переживаниями. Потому мы не очень стараемся заслужить звание лучших разведчиков. Несомненно, некоторые необходимые детали ускользают от нас. Но не ускользают от меня мельчайшие изменения ее лица, улыбка, блеск глаз, и я радостно надеюсь, что разведывательная деятельность не имеют для нас такого значения, как часы проведенные вместе.
Командиры объяснили важность нашей разведывательной службы. По их словам, мы являемся ни чем иным, как глазами и ушами командования «Хаганы» в Иерусалиме. Выясняется, что все двадцать четыре часа вся округа Иерусалима находится под нашим наблюдением, и дежурные нашей роты тщательно следят за всем происходящим. Для меня и Айи в этом не было ничего нового. Вместе с Габриэлем, мы многие дни проводили в подобных, а то и намного более сложных и рискованных занятиях. Поэтому, когда командиры в очередной раз объясняли нам важность нашей службы, мы лишь улыбались про себя.
Новизна состояла лишь в том, что мы патрулировали город в часы школьных занятий. А что может дать столько радости, как погружение в начало лета, когда воздух наполнен запахами мяты, пшеницы…
Я был счастлив, что Айя захотела дежурить только со мной, а не с многочисленными претендентами на партнерство с ней. Я заметил, что треугольник Дан-Аарон-Айя несколько ослабел, и один из его углов сошел со своего места и уже не связан с двумя остальными. Что-то нарушилось в постоянстве «троицы из Бейт-Керема», и не было необходимости в том, чтобы Айя выходила и возвращалась в обществе двух старых друзей. Теперь я понимаю, что повзрослевшая девушка перестала находить интерес в делах, которые занимали юношей, и начала искать того, с которым могла бы делиться мнениями и впечатлениями, не касающимися политики, национального или военного дела. И тогда она сделала резкий поворот в мою сторону стремясь поделиться своими планами на будущее, а то и выплеснуть эмоции. И хотя я старался не предаваться иллюзиям, но медленно и неуклонно все вокруг начали нас воспринимать как влюбленную пару, и я старался таким выглядеть, чтобы подладиться под общее мнение. В последующие годы я ловил себя на том, насколько мы стремимся быть теми, за кого нас принимают другие, а не теми, кем являемся самом деле.
Я забывал то, что внушал себе все время: Айя видит во мне не больше, чем доверенного друга. И я начал находить более приятный смысл в нашем сближении.
Я патрулировал с ней по разным маршрутам. Проходя через предместье Мусрара, мы следили за тем, что происходит у Шхемских ворот Старого города. Мы шли через пригород Тальпиот в сторону железнодорожного вокзала, наблюдая за тем, что происходит в деревне А-Тур. Радостные искры молодости в глазах Айи, казалось, гасли от мрачных, ненавидящих взглядов попадающихся нам по пути арабов.
Как им, должно быть, мешали жить наши независимые шаги и то ощущение счастья, которым веяло от нас, не обращающих на них никакого внимания и не боящихся проклятий, которые они цедили сквозь зубы. От большой любви к Айе я забывал свою ненависть. Я не отвечал на их враждебные выпады, а спокойно изучал их, как изучают любую вещь, попадающуюся на пути, оценивая ее величину и вес и не придавая ей особого значения. Погружен я был в разговор с Айей, не думая об арабской проблеме больше, чем она того заслуживала.
Но проблема, таким образом, не исчезала, и в один из дней напомнила о себе так, что нельзя было от нее отмахнуться. Мы спускались на мотоцикле из квартала Ромема в сторону предместья Гиват-Шауль, чтобы наблюдать за гнездом время от времени бесчинствующей банды, обосновавшейся в Лифте, а затем продолжить путь из Гиват-Шауль в Бейт-Акерем по проселочной дороге, с которой видно было село Дир-Ясин. На расстоянии нескольких десятков метров от здания сельской школы, стоящего на обочине шоссе, я заметил трех молодых арабов, одетых по-европейски. Их прически блестели от бриллиантина, а туфли были из двухцветной кожи… Они ожидали нас явно не с пустыми руками. Один держал палку, двое других – кнуты, сделанные из использованных шин. Намерения банды были абсолютно ясны, но предупреждающий крик Айи, требующей уклониться от них, показался мне недостойным мужчины, и, приняв мгновенное решение, я ответил ей: «Едем прямо на них, и на полной скорости!»
Я нажал на газ, и мы буквально полетели вниз, прямо на банду, которая от неожиданности разбежалась в стороны. Тот, кто держал палку, и один из держащих кнут, вышли из игры. Но третий бандит, который был более быстр и хладнокровен, чем его сообщники, успел взмахнуть кнутом и стегануть меня по спине. Помню лишь, как я обрадовался от того, что подруга, несущаяся со мной, с лицом, покрасневшим от возбуждения, цела и невредима.
И лишь на подъезде к окраине Гиват-Шауля я почувствовал полосу боли на спине, как будто жгли меня каленым железом.
«Ты ранен?» – спросила меня Айя, когда я остановил мотоцикл.
«Нет! Пронесло!»
Но, взглянув на мою спину, она испуганно закричала:
«У тебя через всю спину – от плеча и до бедра – красная полоса».
«Ничего там нет, – попытался я сказать, насколько можно, спокойно, – всего лишь, вероятно, царапина от кнута».
«Мы едем немедленно в Бейт-Акерем, – решительно повела головой Айя, – найдем что-нибудь – наложить на рану».
Мы двинулись по проселочной дороге, соединяющей Гиват-Шауль с Бейт-Акеремом. Боли усиливались, и я уменьшил скорость, чувствуя, как кровь горячо течет по спине и рубаха все сильнее прилипает к коже. Внезапно увиделись мне раем наши прогулки в последние дни, раем глупцов, ложным волшебством окружающего нас ландшафта, такого мирного, а, по сути, состоящего из цепи ловушек и засад. Пробуждение от сна, который я в эти дни пытался по наивности соткать на окраинах Лифты и Мусрары, оказалось мгновенным. Я хотел спрятаться от арабской проблемы, так она дала знать о своем существовании свистом кнута.
Это было мое первое посещение дома Айи и знакомство с ее матерью. О госпоже Наде Фельдман давно шла слава красивой женщины с прогрессивными взглядами, активно сотрудничающей с женскими организациями. Теперь, увидев ее, я понял, откуда наследовала Айя особый цвет волос и красоту. Позднее, соединив разные высказывания Айи о матери в некий реальный образ, представший моим глазам, я понял скрытую печаль моей подруги.
Маленькая дочь, которая росла в доме госпожи Фельдман, очевидно, мешала ее деятельности. Пока отец был жив, он окружал малышку любовью и заботой. Но с уходом господина Фельдмана в мир иной, дочь была отсечена от живой основы, называемой родительской любовью, и превратилась в некий не очень важный пункт в жизни женщины, вся деятельность которой была вне дома. На первом месте были другие более важные пункты, одним из которых была учеба госпожи Фельдман в университете. Несмотря на возраст и семейную жизнь, госпожа Фельдман не прекращала свое стремление получить степень по философии, истории и общественным наукам. Даже в мыслях ее не было, о чем она заявила мужу, учителю начальной школы, оставаться на уровне знаний этой школы, выше которого учителя никогда уже не поднимаются за свою жизнь. Диплом преподавателя она спрятала в одну из сумок и начала учебу, стремясь в течение четырех лет получить академическое образование. Другим пунктом, которому она отдавала предпочтение перед материнством, был связан с ее общественной деятельностью. Госпожа Фельдман привезла с собой из России солидную меру социализма и надеялась заинтересовать им образованных женщин в стране. Свою общественную энергию она решила внести в организацию «Трудящиеся женщины». Она пыталась повысить статус нескольких директрис, занимавшихся ежедневной, лишенной всякого подъема, деятельностью, с тем, чтобы создать некую «настоящую систему трудящихся женщин, борющихся за свои права». Эту революционную идею она пыталась внедрить – требованием создать сеть детских домов, для чего, по ее мнению, следовало организовать демонстрацию тысяч женщин. Но они предпочитали заботу о своих детях походу к дворцу верховного наместника, чтобы протестовать против унизительного положения женщины, согласно старым оттоманским законам. Она удвоила свои усилия, чтобы убедить женщин-социалисток из профсоюза трудящихся поднять красное знамя борьбы, даже если придется сесть в тюрьму (в случае столкновения с полицией), собирать массовые митинги, на которых видела себя возбуждающей эти массы пламенными речами.