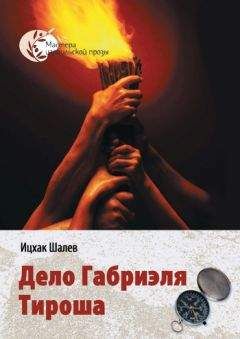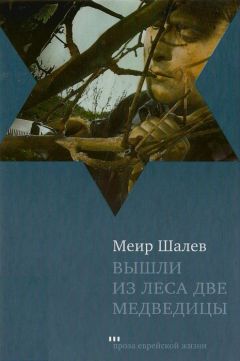Несколько лет спустя, она поняла, что изучение философии и истории не даст ей ничего реального, если она к этому не присоединит профессиональный диплом адвоката. И она ринулась на юридический факультет, основанный мандатными властями, почти все время копаясь в книгах законов. Айя тогда училась в пятом классе. Мать объявила, что дом слишком велик для обеих, и каждый должен жить своей жизнью. С того года мать и дочь готовили еду каждая для себя, ложились спать и просыпались по собственному усмотрению. «Это абсолютная свобода, – определила Айя свое положение, – несет в себе одиночество и холод». Иногда в глубине одиноких ночей в ее комнате возникал облик отца, и это было ей единственной поддержкой. «В те часы, когда шакалы завывают на холмах вокруг Бейт-Керема, а колокола в Эйн-Кереме уныло названивают, необходимо за что-то ухватиться. Вот я и думала об отце».
«А мама?» – спросил я с удивлением.
«Она спит всего в десяти метрах от меня, но, кажется, находится за горами Тьмы»
Госпожа Фельдман осторожно приподняла край рубахи, но быстрым и решительным движением, не обращая внимания на мое слабое сопротивление и бормотание, что, мол, все это не стоит ее внимания.
«Надо обратиться к фельдшеру, – заявила она, – езжай немедленно в больничную кассу».
«Не стоит, – заявил я обеим героическим голосом, напрягая все свои силы, – вправду, не стоит».
«Молодой человек, – обратилась она ко мне мягким голосом человека, слишком озабоченного, чтобы слушать всякие глупости, – умереть от пули это мужество, но умереть от необработанной врачом раны, это просто глупая небрежность».
«Но ведь рана очень легкая», – пытался я сопротивляться из последних сил.
«Рана легкая, чтобы ею гордиться или написать о ней в газете. Но абсолютно достаточна, чтоб развести в ней целую колонию микробов».
Все это время она беспрерывно курила. И завершив свою речь, намекнула, что совещания с ней завершились. Взяла книгу с полки и быстро удалилась в соседнюю комнату, оставляя за собой клубы дыма.
К фельдшеру я не обратился. Возражал всеми силами требованиям и просьбам Айи, но согласился, чтобы она промыла рану мягкой ватой. От этой скорой помощи я ощущал высочайшее наслаждение, какое испытывают герои фильмов, позволяющие прикасаться к их ранам лишь пальцам любимых женщин. Дома я быстро сменил рубашку и вернулся в большое здание, словно бы ничего не произошло. Айя тоже никому ничего не сказала, и общность тайны была для меня в высшей степени приятна. Ночью я переворачивался от усталости на матраце – в сторону рядом спящего Дана. Долго не мог уснуть, а когда уснул, то вскоре проснулся от прикосновения руки Дана:
«Что ты так стонешь?»
«Неужели я стонал?»
И тут я почувствовал сильные боли в спине. Не мог на ней лежать, перекатывался с боку на бок. Я видел, что Дан тоже не спит, и все его внимание обращено ко мне. После короткого молчания, я рассказал ему о случившемся. Я чувствовал, как он тяжело дышит от гнева. Затем приподнялся с матраца:
«Вот, что получается от всех зимних учений и обещаний. Учились мы стрелять и попадать в цель. Учились швырять гранаты. И все для того лишь, чтобы какой-то арабский хулиган хлестнул нас кнутом, как будто мы были плененными им рабами»
«Что я мог сделать?» – спросил я его слабым голосом, как будто именно я был виновен в этом рабстве.
Он извлек из подмышки какой-то длинный предмет и зажег спичку.
«Видишь – пистолет? – продолжал он шепотом. – Я сумел достать его для себя без помощи «Хаганы». И я уверяю тебя, что обойдусь без ее помощи, если придет час пустить его в действие. Пулю в голову за каждое нападение, каждую рану, вот, что надо делать!» Он зажег еще одну спичку:
«Покажи рану».
Я чувствовал тепло спички, движущейся вдоль раны, и слышал его злое бормотание: «Очень узкий круг…» И тут донеслась стрельба с окраин города.
Пришло лето. Дни были жаркими. Но сильнее солнца снаружи, сжигало нас изнутри пламя накопившегося разочарования. Еще тогда, когда нас раскидали по разным группам связных, недоумение быстро обернулось горечью. Габриэль готовил нас к иному, явно не имеющему никакого отношения к ученическим чертежам кварталов Иерусалима и романтическим прогулкам по его окраинам.
По его расчетам, мы должны были пройти курс командиров рот. Увлеченно планировали мы, как передадим все наши знания и энергию другим, чтобы научить их тому, чему научил нас Габриэль, и выковать из них ударные, штурмовые отряды. С этими отрядами мы выйдем в горы и внезапно поразим врага на его пути к нашим поселениям и городам, или в его же селах, где он вообще не ожидает нас увидеть. Об этом мечтал Габриэль, во имя этого мы преодолевали трудности учений в холодные, но столь чудесные, зимние ночи. Когда эта мечта выродилась в скучную ребяческую реальность конспиративных встреч («конспирация» – любимое слово Габриэля из военного лексикона) за запертыми на замок дверьми школьных зданий, мы ощутили, что кто-то взял нас за горло и опустил с высот большой военной операции на землю малых дел, от которых ничего не меняется.
Часть этого накопившегося внутреннего разочарования прорывалась наружу вопросами и замечаниями, с которыми мы обращались к нашим командирам в «Хагане». Спрашивали, почему мы не выходим за пределы города, и нам отвечали, что слишком опасно выходить за границы еврейского анклава. Спрашивали, почему мы не тренируемся с оружием, и получали резкую отповедь, мол, для этого еще не настало время, по возрасту мы не готовы к серьезной военной подготовке. Они втолковывали нам, насколько опасно «играть с огнем», и насколько боевые револьверы и гранаты не похожи на пробочные пистолетики и медные пистоны, которыми развлекаются на праздник Пурим, не подозревая, что мы обладаем уже достаточным опытом владения оружием.
Только однажды мы не смогли скрыть этот опыт, который так и рвался наружу. Как-то мы проходили мимо одной из комнат того большого здания, где проживали. Дверь в комнату была полуоткрыта, и уши наши мгновенно навострились, когда мы услышали такой знакомый и желанный звук – щелканье затвора пистолета. Этот металлический звук слышался нам воистину пением сирен. Ребята, сидящие в комнате, видели нас, но не обратили на это особого внимания, ибо мы каждый день болтались по коридорам. Они сидели вокруг расстеленного на полу шерстяного одеяла и получали от инструктора урок по устройству «маузера». После того, как он пару раз взвел курок и разрядил вхолостую «маузер», пришел черед разобрать оружие на детали и затем собрать. Тут случилась заминка. Инструктор никак не мог вставить одну из частей на место. Мы видели, как он смущен. Лицо его покрылось потом. Один из учеников сообщнически подмигнул нам, вот, мол, как вам нравится эта бездарь, которая собирается нас учить. Все начали давать советы. Затем воцарилось молчание, и инструктор признал свою неудачу. Он отложил пистолет и смахнул пот со лба. И тут я с удивлением увидел, как Дан входит в комнату. Без разрешения он взял эту стальную деталь, и несколькими точно рассчитанными и быстрыми движениями пальцев поставил ее на место. Все были так потрясены ловкостью и быстротой Дана, что не могло быть и речи о каком-либо наказании в связи с нарушением каких-то установленных правил. Мы поспешили тут же убраться.
На тропе, соединяющей Национальную библиотеку на горе Наблюдателей с жилым кварталом, был убит еврей, ученый, который почти каждый день шел пешком в библиотеку и затем возвращался назад. Мы наизусть знали каждый поворот этой тропы, которая петляла по склону белых меловых холмов в долину Вади-Джоз, и выходила на шоссе у фруктового сада. Мы не раз возвращались по ней с полевых занятий вблизи горы Наблюдателей, и потому пролитая здесь кровь произвела на нас особо неприятное впечатление. Мы представляли себе этого человека, спускающегося в город и не знающего, что его ждет. Где же его поджидал убийца? Среди многолетних сосен рощи, сбегающей по склону, или из-за ограды фруктового сада? Мысленно мы шли с ним, взвешивая каждый шаг, слышали отчетливо выстрел, стремительно бросались в сторону убийцы, и наши пистолеты изрыгали огонь. Быть может, и среди нас кто-либо погиб бы, но убийца оплатил бы жизнью свое преступление. Оружие в наших руках совершило бы справедливый суд, и ответственным за эту справедливость был бы человек, что научил нас, как за нее бороться.
Но все это, естественно, были лишь фантазии, и они не помешали гибели еще одного еврея – спустя всего несколько дней. Он шел по кварталу Гиват-Шауль и был убит из засады, по сути, средь бела дня. И я представлял себе лицо убийцы, еще освещенное солнцем, улыбку удовлетворения под черными усами. Вот он исчезает за оградами, идет себе в соседнее село Дир-Ясин хвастаться перед товарищами, такими же убийцами, и готовиться к новым преступлениям. Это ведь так легко, никто и рта не откроет.