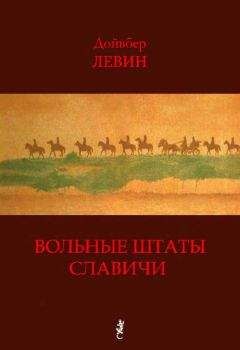Степа обиделся.
— Ну, ты, потише, — сказал он, — а то знаешь?
Степе было шестнадцать лет, но выглядел он старше.
Толсторожий скосился на него — малый крепкий и сердитый, не стоит с ним спорить, — и молча пошел вперед. Очкастый, путаясь ногами в широченном плаще, заторопился тоже.
— «Проваливай», — ворчал Степа, провожая их недружелюбными глазами. — Я те покажу, бродяге, «проваливай».
Через час, возвращаясь к себе на слободу, Степа за три дома еще услыхал голос отца. Надвигались сумерки. Дневной гомон улегся. Мужики сидели в хатах и ужинали. А по пустой заглохшей ушице бухал гулкий голос Осипа. Он кричал и ругался. Спорил с кем-то, что ли?
«Нахлестался, черт, — лениво подумал Степа, — покричит-покричит, а потом выть начнет. Вояка!»
Осип, нескладный, длинный как жердь, однорукий мужик, в солдатской гимнастерке, в коротких, не по росту, синих портках, сидел у окна, вытянув до самой печки босые, грязные, корявые ноги и, равномерно взмахивая рукой, сжатой в кулак, говорил:
— Верно. Верно, милый человек. Вер-но! — говорил он, растягивая слова, — провались она в тарары, власть-то. Всяка власть. Кому как, а нам власть не в сласть. Не треба. Без нее проживем. Да так, что ги! Генерал позавидует. Ты вот ученый человек, умный, скажи мне, пожалста, вот по-товаршц-ски скажи — ну, трогал я его, Николку-то? Ну? Живешь ты там в столице, царь ты или хто. Ну и живи, черт с тобой. Мне что? Я тебе не трогаю и ты мене не трожь. Так? А он мене за шкирку и в окоп. И руку отхватил. И хозяйство развалил. За что? За что, скажи ты мне, товарищ дорогой, а? А то вот тебе друтая медаль. Савецка власть. Рабочая. Крестьянская. Горой за бедноту стоит. А что, однака, делает, а? Мене, инвалида импралистичской войны, са-мую бедноту, и на два месяца в острог. А за что? Человека, скажешь, убил? Подпалил кого? Не, брат. За са-мо-гон. И кто донес? Сын родной донес. Вот что она делает, власть-то. Сына родного доносчиком делает. А ты — власть! Плюю я на ей! — Осип с остервенением плюнул, — тьфу!
«Здрасте. Заладил, — подумал Степа, — с кем это он там?»
Степа, не заходя, приоткрыл дверь и заглянул в хату. У двери на лавке сидел давешний толсторожий парень и перематывал онучи, затягивая их до отказу. А за столом сидел очкастый. Комнату обложили поздние сумерки. Стол и лавка сливались со стеной, но человек этот был заметен. Невысоко над столом белела его поповская шляпа, стекла очков отражали закатное небо, — человек задумчиво смотрел в окно, глаз не было видно и казалось, что он слепой. Все время, пока говорил Осип, человечек сидел неподвижно, словно уснул, и не понять было — слушает он или нет.
Степа тихонько свистнул: ф-ь-ю, вот так гости!
Вдруг очкастый зашевелился. Белая шляпа задвигалась суетливо, как мышь, и пронзительный голос зачастил звонко и дробно, повторяя несколько раз подряд одно и то же слово.
— Так, так, так, крестьянин, — затакал он. — Ага! Ага! Понимаешь? Понимаешь теперь? Человек рождается свободным, как ветер, как буря. А его в клетку, в клетку. Что? Не так? Не так? Подневольный! А что это значит? Под-невольный. Неволя. Клетка. Тюрьма. Что? Не так? Ты — крестьянин. Ты живешь с природой, видишь птиц, пташек. И ты меня понимаешь. Что? Не так? Не так?
«Что за плешь такая?» — подумал Степа. Он ничего не понял из того, что говорил очкастый — «клетка, клетка; пташек, пташек». Но речь ему не понравилась. Он насторожился: «контру разводит, холера, — решил он, — надо будет ребятам сказать».
А Осип согласно крякал и кивал острой кверху шишковатой головой.
— Правильно, товарищ. Верно, — заговорил он и голос его на этот раз звучал глухо и грустно как-то, — какая наша жисть? Собачья. Окаянная жисть, раз ее такая в дышло. Псу иной раз позавидуешь, ей богу. Тварь, думаешь, и разума-то в ей никакого, а лучше твоего век свой живет. Вольней. Пхнешь ее сапогом в пузо, она взвизгнет и на двор. А уже на дворе ее царство. Хто ей там указчик? А тебе нигде нет укрытья. В могиле разве. Прижался я тогда к брустверу, лежу — авось, думаю, пронесет; авось, думаю, не найдет, дура. Это я про шрапнель-то. А она нашла. Да так, проклятая, хватила, что открыл глаза, а правой-то руки как не бывало. Да. А тут тоже. Пришли из милиции, а я задним двором, да через плетень, да в поле. — Отлежусь, думаю, може уйдут, може забудут, хворобы. Ан нет. Засаду устроили. Поймали. Поволокли. А за что?
Что я худого натворил? «Самогонку гнал?» Ну, гнал! «Продавал?» «Ну, продавал! Верно! А что в том худого? Жить же надо. Жить, товарищ дорогой, надо али не надо?» А мене в острог. Ах, ты, божжа мой! Божжа мой!
Осип поднялся и, тяжело волоча длинные нога, прошелся по хате: «Божжа мой! Божжа мой!» — негромко повторял он. Он обмяк весь, постарел.
Толсторожий звучно шлепнул ладонью по онучи, — ладно будет, — и, не глядя на Осипа, пробасил важно и загадочно:
— Повремени малость, дядя, — сказал он, — скоро станет добре.
Осип остановился.
— Откуда ж? — сказал он, — как жа?
— Так уж, — парень хмыкнул и принялся переобувать вторую ногу.
Степа вышел на двор. Он хотел найти мать, спросить, что за люди? Как вдруг в комнате прозвучал выстрел, гулко, будто в пустую бочку ударили. Степа испугался: ой, палят! Он со стуком распахнул дверь и кинулся в хату. Но в хате все было спокойно и мирно. Не было дыма и порохом не пахло. Что за черт? И вдруг опять — бах! — да так, что стекла зазвенели. Степа осмотрелся и чуть не фыркнул: очкастый в углу, схватившись руками за стол, громко чихал. Он мотал головой, захлебывался, сопел, икал, рыгал и опять чихал. «Да что он, помирает, что ли?» — подумал Степа и тут увидел на столе бутыль из-под самогона и пустые стаканы. «А-а-а, — догадался Степа, — нализался, герой», — и пошел к двери.
В эту минуту сзади кто-то сгреб его за шиворот, тряхнул разок и потащил к столу.
— Вот он, товарищи дорогие, — лез в уши сердитый голос Осипа, — вот он, сстерва! Отца родного продал! А? Отца родного в острог засадил! А? Бить его? Резать его? А?
Степа рванулся:
— Пусти, ну!
Но Осип держал крепко.
— Бить его? — кричал он, — резать его?
Очкастый икал. А толсторожий покосился на Степу и спокойно сказал:
— Бей, — сказал он, — чего на него смотреть?
Степа вобрал голову, изловчился и острием локтя как двинет батьку в живот. Осип только охнул и разжал пальцы. А Степа, отряхиваясь, как лошадь после купанья, не спеша пошел вон. В дверях он остановился и погрозил толсторожему кулаком: попомнишь, шкура!
По двору ходила мать, Ганна, круглая крепкая баба с плоским рябым лицом, узкоглазая, как татарка. Она рассыпала у крыльца овес и сгоняла туда кур: «Цып, холера на вас! Цып, чтоб вам окосеть!»— беззлобно кричала она и замахивалась прутом.
— Это кто же там сидит-то? — спросил ее Степа.
— А где жа? — певуне сказала Ганна.
— В хате.
— А лях жа их знаит.
— Они зачем пришли то? — спросил Степа, — за самогоном что-ль?
— А нет жа, — сказала Ганна.
— Так чего им надо?
— А лях жа их знаит.
— «А лях жа, а лях жа», — передразнил Степа. — Дура.
Он встал под окно и прислушался. Но в хате заговорили тихо, зашушукались. Толсторожий скоро-скоро о чем-то спрашивал. Осип кратко отвечал. Очкастый одно слово сказал громко с визгом: «Узурпаторы! Узурпаторы!» Но Степа не понял, что это значит, слово то было незнакомое. Потом Осип высунулся в окно — Степа присел — и крикнул: «Ганна!» «А чего жа?» — певуне спросила Ганна. — «Пойдешь, товарищей проводишь, — сказал Осип, — чуешь?» «А корову жа доить», — сказала Ганна. «Не подохнет корова. Иди». И Осип отошел от окна.
Степа, пригнувшись, чтоб не видно было из окна, пробежал шагов тридцать и лег во рву у дорога. Дорога была безлюдна. Сумерки сгустились. Наступала ночь. В поле было темно и тихо. И только далеко, у самой земли тлела красная полоса зари.
Вскоре показались Ганна, толсторожий парень и очкастый. Он плелся последним, смешной карлик в круглой белой шляпе и в длинном плаще. Степа слышал, как он бормотал про себя: «…каторы… завцы… уби!.. уби!..» и икал.
У городища — отвесная гора с котловиной, вроде кратера — все трое остановились. Тут дорога разветвлялась. Прямо — широкий шлях, телеграфные столбы и тополя, стройные и строгие. Налево — дорога в лес. Правее, огибая городище, узкая тропа в соседнюю деревню Малаховку.
Ганна, протяжно и певуче попрощавшись, повернула назад, а те двое пошли по дороге в лес.
Было темно и тихо. Где-то близко в болоте верещали жабы. В небе зажглась звезда. А толсторожий и очкастый все удалялись, все уменьшались, постепенно сливаясь с темнотой.
«Задержать бы их, гадов, следовало», — подумал Степа. Он вскарабкался на городище — с горы-то видней — и, задрав голову, долго стоял и смотрел на дорогу в лес. И увидел: на дороге появились конные. Вдруг. Словно из-под земли выросли. Трое. За ними вдали догорала и рдела вечерняя заря. И на заре четко видны были черные тени верховых и коней. Толсторожий им что-то крикнул. Всадники ответили, потом повернули коней, гикнули, цыкнули и умчались так же мгновенно, как и появились. Поле опустело.