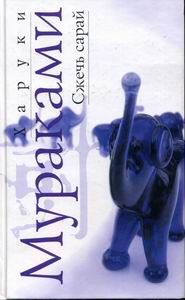Она щедро отзывалась самым неуловимым импульсам: когда после завершающего ожога устьице гейзера подтягивалось, освобождаясь от последних капель лавы, она отвечала Его предсмертным вздрагиваниям долгим рукопожатием, которое – каскад чудес – я ощущал человеческим, волей, а не рефлексом. Во мне словно лопнула стальная переборка и человеческое хлынуло в нежилые пещеры: от чувств самых наичеловеческих – нежность, умиление, восхищение – этот живой труп, напоенный чужой кровью, вновь и вновь поднимался из могилы.
Слегка взбудораженный газиевскими восторгами, я попытался запечатлеть радость встречи в не до конца раздетом виде. И вдруг она вырвалась очень уж всерьез: “Как-то это грязно!..” -
“Глупая, неужели между нами может быть что-то грязное?..” – “Ты правда так думаешь?!.” – и бросилась на шею словно бог знает от какой радости. Невероятно трогательна была эта ее манера – обнимать за голову. Она вообще не спускалась ниже пояса. Но когда я с улыбкой это отметил, немедленно спустилась и больше уже не знала никаких границ.
– Опять целый день придумывала, чем бы еще тебя ублаготворить.
Мне все кажется, что я с тобой не расплачиваюсь.
– Тебе же нравится смотреть, как я ем? Умножь на миллиард – вот что ты мне даешь.
– Так легко стало, просто – зачем только придумали всякие стеснения?
– Только стесненная струя бьет фонтаном. А свободная течет, как суп изо рта.
– Ты сумасшедший. Ершов, наоборот, только для здоровья…
– Здоровьем надо расплачиваться, а не служить ему… Во дожил – позволяю себя с кем-то сравнивать!.. Эх, не попался я тебе раньше… – Натруженную зону Ершикова я ощущал разодранной раной объемом в кулак. Но меня это не касалось.
– Я разве возражала? Ты и сейчас фантастический любовник – только я боюсь, что это плохо кончится.
– Как всё. Но ты такой фантастический инструмент… Жаль, что не даешь мне развернуть весь арсенал.
– Я не люблю физзарядку.
– Я всего лишь хочу, чтобы ты наконец не чувствовала себя обойденной. Сами-то по себе удовольствия душу не затрагивают.
– А если начинаешь засыпать – и вдруг как током?.. До утра потом не можешь уснуть – это душу затрагивает?
– Да… тогда конечно… А ты… не пробовала сама себя?.. – научная гадость и в простоте не выговаривалась.
– Пробовала, – отрубила не глядя. – Никакого толку.
– Ну, тогда не знаю…
– Вот и не говори.
Ослабевшее саднение я уже воспринимал как здоровье. Выбираясь из ванны, она оказалась на коленях пионерской спинкой ко мне. Я припал к ней, мокрой, губами, упиваясь, как вампир, побежавшими по ее телу вздрагиваниями. Их Одеревеневшее Высочество, вновь переполнившись деятельной человечностью, снова рвались в бой. Я начал наклонять ее к последней вседозволенности, бормоча что-то вроде “дядя не обидит, хорошая, хорошая собака” (та, махнувши рукой на все эти странности, укрылась у себя под мышкой). Мне хотелось показать небесам, что я не убоюсь никаких откровений, даже венозных вишенок: бисеринки, нанизанные на фиолетовые волоски капилляров, уже вызывали только укол нежности. И я не отшатнулся, только она порывалась выпрямиться. Борясь, я одной рукой удерживал ее, другой Его, но символически жертвоприношение, можно сказать, все-таки состоялось.
Девственной алости ее щек позавидовал бы пионерский галстук.
– Еще и больно… Направление неправильное.
– Но если ты предпочитаешь умереть стоя, чем жить на коленях…
– Ты думаешь, только у тебя есть гордость, самолюбие?.. – мгновенные слезы, поразительной чуткости инструмент…
– Глупая девчонка – я же смеюсь от счастья! Оказывается, можно выйти замуж, родить ребенка, торговать на барахолке – и остаться той же самой “хорошей девочкой”.
– Ну конечно, я такой и осталась.
– Да и я вроде бы знал, что душа и тело – совершенно разные вещи. И все равно ты мне казалась как-то непоправимо опоганенной.
– О, Мирей Матье! Теперь ты и выглядишь на свои пятнадцать.
– Мне вообще идет короткая стрижка. Пышненькая. А вот Ершов сказал, что это комплимент для Мирей Матье, а не для меня.
– Ершов говорит комплименты, подает руку, придерживает дверь, он, судя по всему, вообще отличный парень…
– Мне это все в один голос говорят. Он и мне внушил, что это я плохая. У него все всегда очень разумно: давай пока не заводить детей – еще неизвестно, будем жить или…
– Разумность – тоже простота. Если разрешить человеку пробовать, он никогда не остановится. Меня страшно волнует формула “Покуда смерть не разлучит вас”.
– Почему же вокруг тебя всегда какие-то женщины?
– Я сам жертва этой заразы – “сердцу не прикажешь”, “право на поиск”… Священное право на распущенность: если чешется спина, бросай поднос с посудой и чеши спину. Но я больше не хочу считать себя рабом стихий – ни внешних, ни внутренних. Если я не исполнил долг, значит, плох я, а не он.
– Почему мы словами все время друга царапаем, а руками…
– Слова – это правда мира, а руки – правда мига. Мануальная терапия – чудодейственное средство…
– Точно, точно руки добрее языка.
– Не говори, иногда и язык… где они там у тебя?.. Давно что-то не целовал тебя в губки…
– Нет, нет, нет, сегодня нельзя!..
– Пустяки, тампоны “Тампакс” – идеальное средство для современной женщины! Свобода: вчера стыдно, сегодня элегантно!
– Перестань, а то я снова начну стесняться…
Блаженствовать с открытыми глазами – в мире, а не в скафандре – она не умела. Ниточка свисала из нее, как из новогодней хлопушки.
Повелитель стихий, я упивался своим могуществом и ее неисчерпаемостью, в которой и штиль был не менее восхитителен, чем шквал. Вдруг я заметил, что из ее прикрытых веками морских ледышек к ювелирным ушам тихонько струятся слезы. Я же не зверь, я почувствовал все, что положено, – жалость, неловкость, но и – скуку.
Подобно русалке, я сумел зацеловать, заласкать, загнать внутрь прожегшие нашу атмосферочку прозрачные метеориты правды.
Подтаявшие льдинки снова зажглись радостным интересом.
– А ты знаешь, что у тебя нос кривой?
– У Каренина объявились уши, у меня – нос…
– Наоборот, мне теперь кажется, что у всех носы неправильные, а у тебя правильный.
– У меня был очень крепкий нос – никак не могли разбить. Только головой наконец разбили.
Чувствуя себя серьезно уязвленным, я вгляделся в ее носик, но неведомый мастер вырезал его без малейшего изъянца. Короткая стрижка ее распалась на прямой семинарский пробор, и…
– Ты ужасно похожа на молодого Горького. Антикарикатура – такой хорошенький Олексей Пешков.
– Приехали. Поздравляю.
– Почему меня?
– Тебе смотреть.
Она поспешно удалилась и, грянув унитазной ксилофонной клавишей, которую сам я всегда обеззвучивал рукой, вернулась уже египтянкой: полосатое полотенце прикрывало ньютоновские бигуди.
Пышненькая… Но непоправимое уже случилось. В победном кураже я вообразил, что мне море по колено, – не зажал уши, когда она, запираясь, клацнула сортирным затвором, – и услышал, как бодрое журчание завершилось беззаботным залпом. Не смейтесь – залп
“Авроры” сокрушил великую империю.
Было минус семь часов двадцать три минуты. Время двинулось вспять.
Но телефон понемногу освобождал нас от мяса и слизи, от пульсирующих мешков и трубок. “Ужасно скучаю”, – убито повторяла флейта, и меня охватывало счастье под маской сострадания.
“Тараканов уничтожаешь?” – “Уничтожаю. Я им спать не даю”. И я слегка уступал сладостным корчам умиления. Но при виде долгожданных бастионов и трубных сплетений Химграда в самое сладостное из блаженств – в блаженство предвкушения – вливалась ледяная струйка тревоги. Чтобы опередить где-то зреющую лавину
(“ТУККК!..”), я начинал раздевать мою таечку свеженькую, будто только из холодильника, уже в прихожей. “Ну подожди, – словно капризного любимчика, урезонивала она, – я совсем ничего не чувствую, я должна снова к тебе привыкнуть”, – но я усаживал ее на стол и, обращаясь в муравьеда, пытался оживить атрофировавшуюся клавиатуру. Щекотно, щекотно, смеясь, елозила она, успокойся, ты все экзамены уже сдал, отдайся человеческому,
– но я все равно вторгался в нее – на столе, на полу, на стиральной машине в ванной, лишь бы не где положено.
В подзатянувшемся море Ершикова обжигало как следует только в первый раз, дар наслаждения возвращался ко мне, а потом мы погружались отогреваться в ванну и в человеческое, готовя себя к настоящим бурям – тоже, впрочем, человеческим, ибо физиология обратилась в знак. “Соседи подумают, что я тебя пытаю”, – самодовольно жаловалась она, но я каждый раз все же успевал вытереть щекой то место, которое обслюнявил в предсмертном усилии не отгрызть. Но ледяные капли правды из дурно затянутого крана все чаще заставляли втягивать шею. “Два дня с радикулитом пролежала, некому было за хлебом сходить…” “Иду тебя встречать, а сама думаю: может, в последний раз…” Но ведь все в мире кончается кошмаром, спасение одно – знать, но не верить!