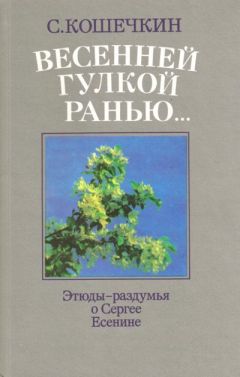Банка скачет по перрону с противным жестяным дребезжанием. Он залезает в вагон, и маневрушка утягивает его прочь.
— Итак, — напоминает о себе старик, — вы явились на станцию незваным гостем. Что ж, должен вас огорчить — вы можете застрять тут навсегда!
Последнее слово он произносит торжествующим, каркающим голосом. «Навсегда! Навсегда!! Навсегда!!!» — прыгает по станции эхо. Семафор у тоннеля вспыхивает зеленым. Приближается очередной состав. Он выносится из провала в стене со свистом, весь сверкающий огнями, точно детская игрушка. Если «ЭР-200» походил на пассажирский самолет, то этот поезд своими обводами напоминает современный истребитель. На зализанной кабине — красный силуэт хищной птицы и надпись: «Сапсан».
— Вынужден с вами проститься! — Старик оскаливает белые, явно вставные зубы. — Всего вам, юноша!
И он бойко ковыляет к затормозившему составу. Ему остается сделать всего один шаг, чтобы войти в вагон, но тут двери с шипением начинают закрываться и «Сапсан» трогается с места.
— Постойте! — кричит старик, пытаясь вставить зонт в щель между дверями.
— У-у-у! — воет поезд.
— А-а-а! — кричит старик.
Его тащит следом за вагоном. В воздухе мелькают костлявая рука, полы плаща — и «Сапсан» во мгновение ока исчезает со станции.
Я подхожу к краю перрона. Старик лежит на рельсах, разрезанный пополам. Пузырится кровь, шевелящаяся груда кишок расползается между шпалами, нелепо дергается скрюченная нога. Мое горло сжимает спазм, и я блюю прямо на останки…
Глава пятнадцатая
Тайм-аут, коллега
— Пятёра, братан! — кричит кто-то, тормоша меня, словно куклу.
Голова раскалывается, как будто в нее воткнули раскаленный штырь. Рвота не прекращается. Острая боль режет желудок, мне не хватает воздуха — спазмы идут один за одним, не давая возможности вдохнуть.
— Водички ему дайте, — просит Шуня.
— Щас, щас, — отзывается Губастый.
Мне на лицо льется холодная вода. Она затекает в нос, в рот, я пытаюсь вдохнуть, делаю глоток — и опять сгибаюсь пополам в рвотной судороге.
— Поднимите его! — командует Тёха.
Крепкие руки Сапога вздергивают меня, прислоняют спиной к чему-то твердому. С трудом разлепляю склеившиеся от гноя веки. Тусклый свет лампочки режет глаза, точно ножом. Различаю Губастого. У него под глазом финик, нос распух, как баклажан. Рядом появляется лицо Шуни. Оба смотрят на меня с испугом.
— Ну че, братан? Как ты? — басит слева Сапог.
— Нэ-э-э… — Я пытаюсь сказать «нормально», но голоса нет, одно мычание, переходящее в хрип.
— Не трогай его, пусть оклемается, — Тёхин голос раздается слева.
Так, значит, все здесь, всё в порядке, один только я такой вот лох фанерный, чуть тапки не отбросил. Поднимаю руку и трогаю голову. Трогаю — и не чувствую ее. Вместо головы у меня какой-то матерчатый шар.
— Тихо, тихо, — Сапог ловит мою руку, осторожно, словно она стеклянная, опускает вниз. — Не дергайся, тебе вредно. Ну, всё?
— Всё-о-о-о, — выдавливаю я.
Слава богу, тошнота постепенно отступает. Организм подает сигналы — ноги на месте, руки целы. Понимаю, что сиденье подо мной слега подрагивает — значит, мы едем. И едем, судя по полкам, в поезде, в плацкарте, а не в электричке. Но как мы сюда попали?
— Жрать хочешь? — со всей участливостью, на какую он только способен, спрашивает Сапог.
— Офигел?! — одергивает его Губастый. — Какой ему сейчас жрать! Пусть сидит.
— Лечь бы… лечь, — эти слова получаются у меня уже лучше.
— Сиди, — говорит Тёха. — Ты как ложишься, сразу блевать кидаешься.
— А где… Куда едем?
— Кемерово проехали, — сообщает Губастый. — Утром в Красноярске будем.
— Ке… Кемерово? — Я силюсь вспомнить, где это, пытаюсь мысленно представить карту. Голова пульсирует болью в такт далекому перестуку вагонных колес. — Сколько я… в отрубе?
— Третий день кончается, — усмехается Сапог и тут же увлеченно начинает говорить: — Мы думали — кирдык тебе, братан! Думали, Бройлеру дубль дашь, понял?
— Погоди ты! — обрывает его Губастый и обращается ко мне: — Ты вообще ничего не помнишь?
— Гопоту помню… — Я напрягаю память. — Монтажкой меня…
— Во, все так и было! — радуется Сапог и пихает Губастого. — А ты — «он память потеряет», «дебилом будет»! Ух, был бы у меня автомат, всех козлов бы положил!..
— Пяточкин! — зовет меня Шуня. — Ты герой России, знаешь?
— По… почему?
Сапогу надоедает этот косноязычный разговор, и он разводит руки в стороны:
— Тихо все! Я сам. Короче, так: когда ты под монтажку кинулся, косари в вагон вломились. Ну, они видели, как все было. И давай этих уродов принимать. А те в отмах. И все по новой. Тут станция. Косари уже в курсах, две машины подогнали, народу валом, все со стволами. «Скорая» приехала. Кипёж такой, как будто президента встречают. Короче, всех повязали.
— И нас?
— Нас в больничку повезли. Тебя на носилках, мы рядом. Шуню только хотели в косарню для дачи показаний — она ж одна вся целая!
— Неправда, я ноготь сломала! — возмущенно кричит Шуня.
Все начинают ржать. И я тоже, хотя это очень больно. Но смех продлевает жизнь, а боль можно потерпеть.
Отсмеявшись, спрашиваю:
— А чего потом было?
— Косарь к нам пришел, целый майор. Ну, начался гнилой базар — кто-почем-хоккей-с-мячом. Телега про экскурсию, ясное дело, не катит. Мы молчим. Тогда косарь сам начинает: мол, как хорошо, что этих отморозков взяли, на них столько всего висит, а главное, они мента замочили осенью, тоже в электричке. В общем, благодарность нам кидает реальную. И спрашивает, чем помочь.
— Ага, — не выдерживает Губастый. — И тут Тёха: нам билеты надо до Хабаровска.
— Глохни! — рявкает Сапог. — Сам расскажу! Короче, косарь кричит — не, до Хабары не могу, но до Красноярска сделаю! В общем, жратвы он нам купил, лекарств для тебя — не помнишь?
— Я ж в отрубе был, — пытаюсь пожать плечами, мол, как я могу что-то помнить. — А че, такие косари разве бывают?
— Всякие бывают, — бурчит Тёха.
Движение отзывается болью во всем теле. Оказывается, у меня пострадала не только голова.
— Ха, в отрубе! — Сапог хлопает тыльной стороной руки в ладонь. — Ты ж ногами ходил, воду пил, хавал даже. Правда, блевал все время и мычал, как бухой. Мы с Губастым тебя в туалет водили. В коридоре отпустим, ты клешни растопыришь и чапаешь — му-му! На зомби из кино похоже. Косарь нам кричит: куда вы его тащите? Его лечить надо, капельницы-муяпельницы всякие ставить. А мы кричим: десант своих не бросает! В общем, свинтили с больнички, в поезд затихарились, ведро у проводницы взяли и вот — едем.
***
Ночь проходит спокойно. Перед сном Шуня и Губастый в четыре руки делают мне перевязку, накладывают какую-то вкусно пахнущую покоем мазь. Больничные запахи для меня всегда, с самого детства, связаны с чем-то приятным — с отдыхом, с тишиной, с одиночеством.
— У-у-у, тут такой шишак, — завистливо говорит Губастый, осматривая мою освобожденную от бинтов голову. — И рана!
— Рана-то откуда? — Я вспоминаю обмотанную изолентой монтажку.
— А кожа лопнула, — Шуня произносит эту фразу так, точно это обычное и даже плевое дело — ну подумаешь, кожа! Лопнула, бывает…
Мазь помогает. Боль в голове постепенно проходит. Тошнота время от времени напоминает о себе, но это уже не те спазмы, что рвали меня на части. Ведро остается стоять под полкой.
— Все путем будет! — весело ободряет меня с боковушки Губастый.
— Хватит базарить! — бурчит Тёха с нижней полки.
Сапог и Шуня, шепчущиеся о чем-то наверху, затихают. Наступает гулкая вагонная тишина. Под аккомпанемент колесного стука я медленно погружаюсь в сон.
Губастый прав: все будет путем…
***
Утром я самостоятельно дохожу до туалета. Меня не тошнит, голова почти не болит, только страшно чешется. Но мутняк остается — время от времени все вокруг начинает «ехать», и я против воли хватаюсь руками за полку, на которой сижу.
Пробую поесть — пара бутербродов проходит нормально. Хочется еще, но Тёха решительно пресекает мои попытки нажраться от пуза.
— Хорош. Опять заблюешь все, Губастому потом убирать.
— Красноярск! Прибываем в Красноярск! — зычно вопит проводница, ковыляя по вагону.
— Погода там как? — окликает ее Губастый.
Проводница неодобрительно смотрит на нас — такие пассажиры для нее головная боль, но все же снисходит до ответа:
— Передали — тепло, плюс один.
Красноярский вокзал похож на дворец — здоровое старинное здание с куполом. Только по бокам к нему зачем-то пристроили два современных «турецких мавзолея», и теперь дворец похож на пожилую богатую тетку, которую зажали в темном переулке два гоп-стопника.