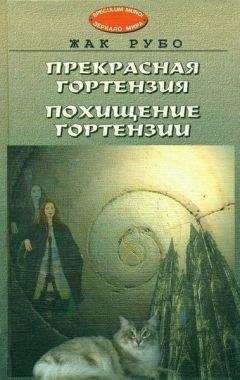Он старательно редактировал эти доклады по вечерам, после ужина (куриный бульон, рагу с картофелем и запеканка); в то время как мать вязала, он проверял орфографию по старому словарю Литтре, а синтаксис — по Гревиссу. Каждая фраза у него начиналась с заглавной буквы, а в начале абзаца буква была чуть крупнее. Он разнообразил стиль описаний, иногда используя косвенную речь, часто вводя диалоги с ремарками и указанием действующих лиц, как в пьесах из маминого любимого журнала «Иллюстрация». Например: «…сентября, девятнадцать часов сорок минут, у супругов Буайо; сцена представляет мясную лавку; на полу, посыпанном опилками, лежат две куриные лапки; юная Вероника стоит рядом с отцом, который держит ее за руку и говорит, чтобы она отвечала дяденьке инспектору:
Арапед: А этот дядя, который играл банками с краской, он был высокого роста?
Вероника: Да.
Арапед: Вот такого? Нет? Может, такого? Выше твоего папы?
Вероника: Нет, не выше папы, папа выше его, у папы есть большой ножик, чтобы резать мясо, когда я вырасту, я тоже буду мясником, и у меня будет ножик».
Не стилистические или эстетические соображения заставляли Арапеда править свои доклады, словно рукопись великого писателя. С одной стороны, это помогало ему сосредоточиться, не упустить из виду детали, которые потом могут оказаться важными; с другой стороны, он пользовался случаем, чтобы между строк продолжить свою вечную философскую дискуссию с Блоньяром; он подчеркивал неточность ответов, отсылал к другим страницам тетради, желая выявить противоречия в показаниях разных свидетелей, и завершал свой труд каким-нибудь афоризмом из Монтеня или Чиллингворта. И потом он знал, что таким образом возбудит интерес, а стало быть, и интеллектуальные способности Блоньяра и что от этого возбуждения родится блистательная идея.
Мадам Эсеб отвечала на вопросы инспектора Арапеда услужливо и словоохотливо, часто призывая в свидетели Александра Владимировича; она рассказала обо всем, что знала, — и это не добавило ничего нового к сведениям, которыми уже располагал Арапед, — и обо всем, чего не знала, — это был очень долгий рассказ, также, естественно, ничего не давший Арапеду. Ее словоохотливость и услужливость нисколько не удивили инспектора, привыкшего общаться со свидетелями этого возраста и из этой среды, однако тут чувствовался некий перебор, и Арапед подумал, что мадам Эсеб есть что скрывать (так оно и было, и мы еще всего не знаем), но ее тайна, пусть даже и позорная, вряд ли заинтересует полицию и в любом случае никак не связана с расследованием. Поэтому он слушал с непроницаемым видом, два-три раза удивленно поднимал бровь — и каждый раз мадам Эсеб вздрагивала, бросала взгляд на Александра Владимировича и становилась еще словоохотливее и услужливее.
Не напрямую, но вполне четко она предоставила Эсебу алиби, по крайней мере по последним эпизодам дела, и Арапед, глянув в открытую дверь на старого бакалейщика, стоявшего на посту перед лавкой, не удивился: он не включал Эсеба в число наиболее вероятных подозреваемых.
Гораздо больше его заинтересовал кот. Он явно что-то знал, более того: это «что-то», видимо, затрагивало его самого, так как он тщетно пытался скрыть от наметанного глаза инспектора свое любопытство и напряженный интерес к разговору. Недавно инспектор прочел новеллу одного английского автора, где шла речь о коте по имени Тобермори, которого некий немецкий ученый, приглашенный на уик-энд в загородный дом, научил говорить по-человечески; и Тобермори воспользовался этим, чтобы раскрыть множество смешных и постыдных секретов как хозяев дома, так и гостей, что сделало уик-энд чрезвычайно забавным. Арапед подумал, что хорошо бы научить Александра Владимировича человеческой речи, затем доставить в снившийся ему по ночам комиссариат, посадить на желтый стул и подвергнуть допросу третьей степени; такой подозреваемый вряд ли выдержал бы дискуссию о вещественных доказательствах. Вздохнув, он закрыл блокнот и поблагодарил мадам Эсеб, которая, по-видимому, почувствовала огромное облегчение.
Выходя из лавки, он встретился в дверях с человеком, в котором узнал по фотографии (перед каждым опросом он запасался фотографиями свидетелей-подозреваемых, чтобы составить представление об их характере и о том, как они будут ему отвечать; это позволяло ему заранее выбрать ту или иную тактику: ведь нельзя задавать одним и тем же тоном одни и те же вопросы угольщику, пономарю и чиновнику) отца Синуля, органиста церкви Святой Гудулы. Он воспользовался этим, чтобы представиться и попросить уделить ему минутку. Синуль обрадовался такой неожиданности, так как успел забыть, за чем жена послала его в лавку (у него случались провалы в памяти: нередко он рассказывал Иветте то, что узнал от нее накануне или что с утра прочел в «Газете», которую она как раз держала под мышкой). Отец Синуль растолковал Арапеду все обстоятельства Дела, его социокультурное значение и его возможное развитие в будущем. Инспектор много услышал о Деле вообще и очень мало — в частности, но поскольку Синуль занимал далеко не первое место в списке подозреваемых, можно было не огорчаться. Затем инспектор направился к Эсебу.
Эсеб отнесся к его появлению без восторга, наоборот, даже с раздражением. Он чувствовал, что сейчас его будут беспокоить по пустякам. После бури равноденствия небо вновь прояснилось, но стало гораздо прохладнее, и дни, как и положено осенью, укоротились, это вдруг стало заметно, скоро введут зимнее время, и вечера станут еще темнее. Волна туристок пошла на убыль, пока еще их было довольно много, но они позже появлялись на улице и раньше исчезали, а главное, начали прикрываться со всех сторон. Эсебу это, понятное дело, причиняло большие неудобства: период изобилия, когда у него глаза разбегались и слюнки текли, как от количества и качества, так и от выпуклости и прозрачности, сменился если не скудостью (худшим временем был февраль), то необходимостью напрягать внимание, чтобы ничего не пропустить, — мучение, да и только. Впрочем, появились и кое-какие новые возможности: пользуясь знаниями, накопленными за весну и лето, можно было проверить себя и определить умозрительным путем то, что теперь было скрыто от взгляда. В этом была своя прелесть; день выдался прохладный, юные англичанки, легкомысленно надевшие прозрачные блузки, проходили мимо, дрожа всеми своими маленькими острыми грудками и всеми своими маленькими розовыми ягодицами (очень правдоподобная гипотеза) на свежем сентябрьском ветерке, и Эсеб опять повеселел.
И надо же, этот увалень пристал к нему с расспросами. Эсебу понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, чего от него хотят: инспектор спрашивал, не наблюдал ли он каких-нибудь сомнительных личностей и неблаговидных действий на улице Вольных Граждан.
— Ваша уважаемая супруга сказала мне, что вы большую часть времени проводите здесь и никто не может пройти мимо вас незамеченным.
Вначале Эсеб не понимал, зачем его об этом спрашивают. Он решил, что муниципалитет проводит статистическое обследование, выясняя, сколько туристок передвигается в том или ином направлении в зависимости от времени суток, дня недели и сезона; он располагал совершенно точными сведениями такого рода и готов был ими поделиться. Заодно можно было спросить у этого увальня, почему с востока на запад они ходят чаще, чем с запада на восток; не хотелось думать, что в центре города их похищает какая-нибудь банда торговцев живым товаром. В итоге произошло недоразумение. Когда Эсеб назвал несколько цифр, Арапед записал их, а потом подумал, что на одной улице не может быть столько подозреваемых. Сменив тактику, он попросил Эсеба описать кого-нибудь из подозреваемых. Эсеб тут же приступил к описанию, заимствуя из богатого арсенала своей памяти контрасты между цветом платья и цветом трусов, воссоздавая особенно яркий экземпляр.
— Вы не представляете, — сказал он, — как могут разочаровать ягодицы, когда сравниваешь то, что видишь, с тем, что там должно быть, ведь некоторые вводят в заблуждение нарочно, да-да, нарочно! Жуть что такое!
Арапед почувствовал, что сходит с ума. Взяв себя в руки, он спросил Эсеба, может ли тот без анатомических подробностей описать ему одного из подозреваемых, то есть мужчину. Изумление, с каким посмотрел на него Эсеб, тут же сменилось возмущением.
— Что-что? Мужчину? Да вы что, рехнулись? Да кому они нужны, мужчины, я понятия не имею, сколько их тут ходит, и зачем мне, спрашивается, смотреть на мужчин? Разве у мужчин есть груди? Разве у них есть… — и он стал подробно перечислять все остальное, обратив Арапеда в поспешное бегство.
Вечером, перед тем как лечь спать, Эсеб ощутил нечто вроде сомнения. Он только что доел суп, как обычно вздувая в тарелке пузыри, как вдруг ему вспомнились слова инспектора: добропорядочный гражданин должен смотреть, что делается вокруг, чтобы при необходимости сообщить властям о неблаговидных действиях. Только при этом условии в нашем городе можно будет жить безопасно. И вдруг Эсеб спросил себя: а является ли он добропорядочным гражданином? Вначале этот вопрос не показался ему таким уж серьезным.